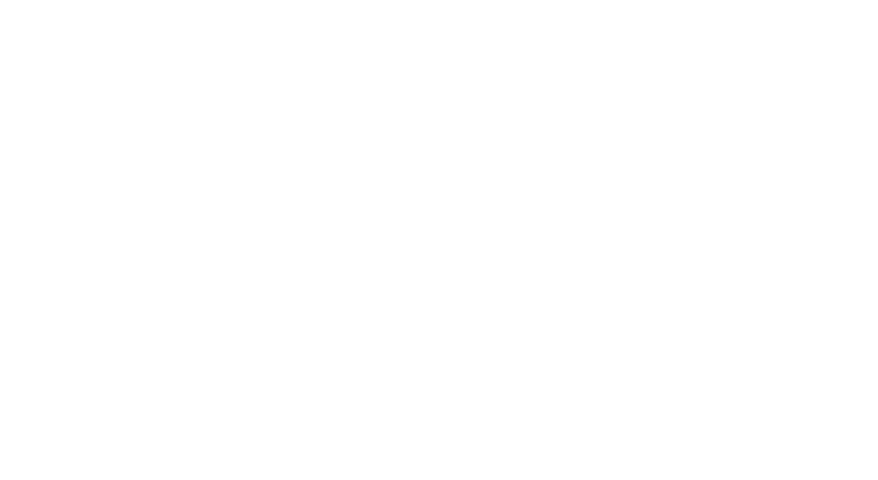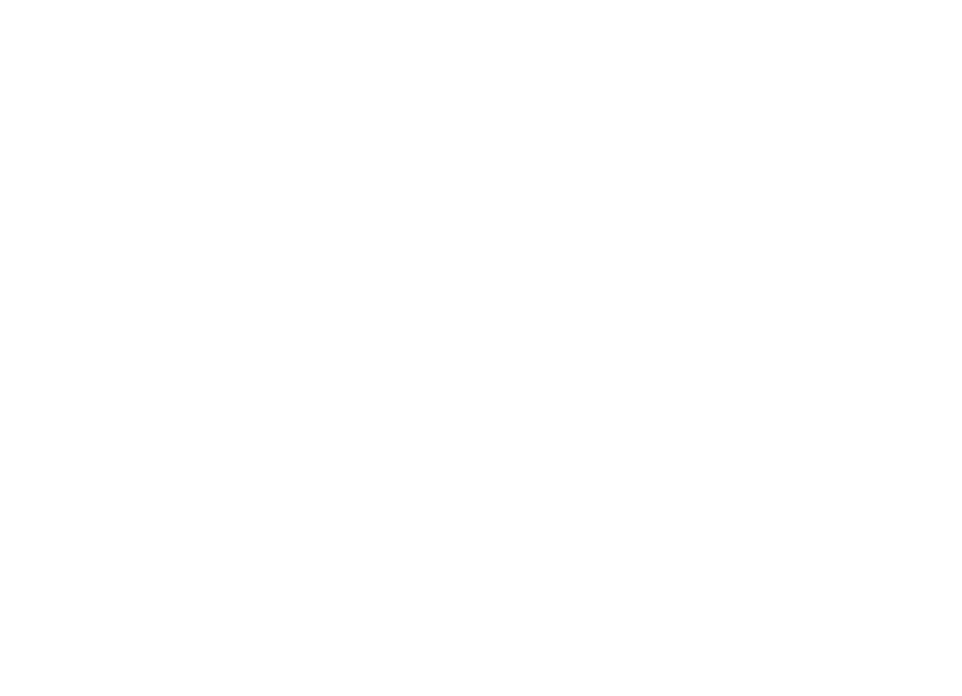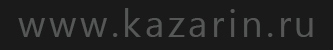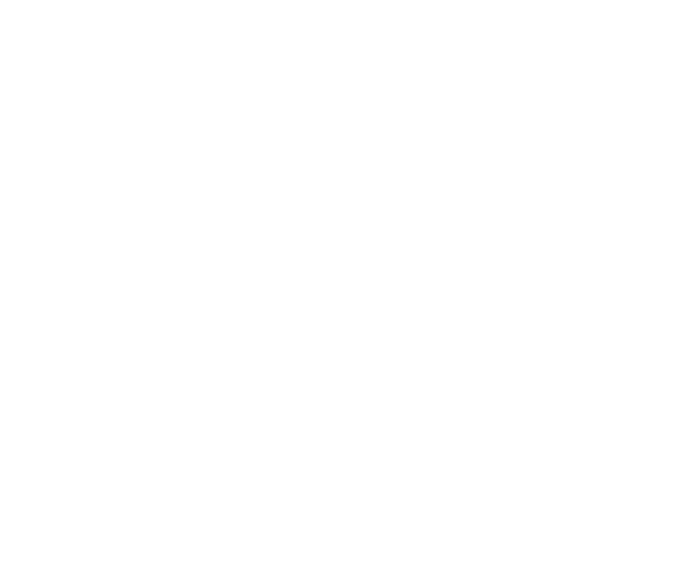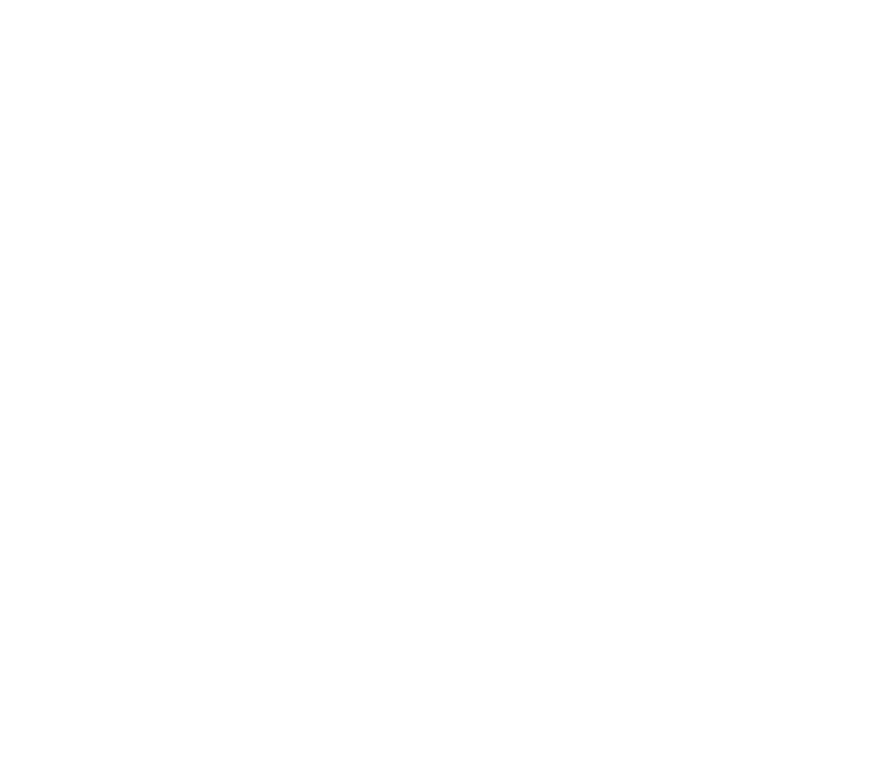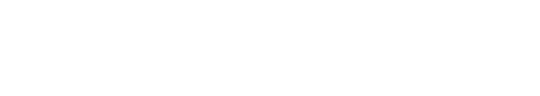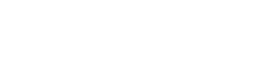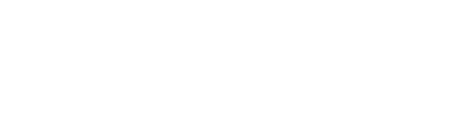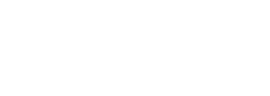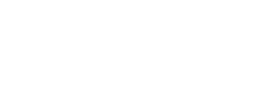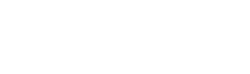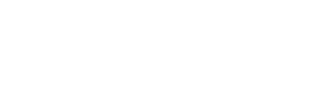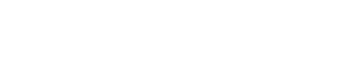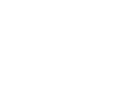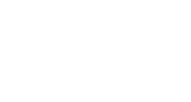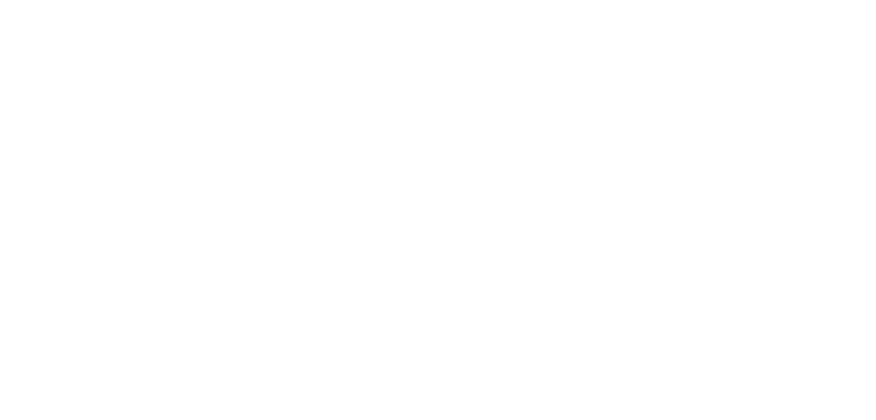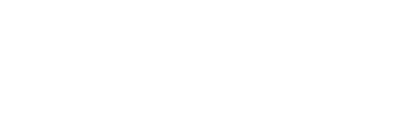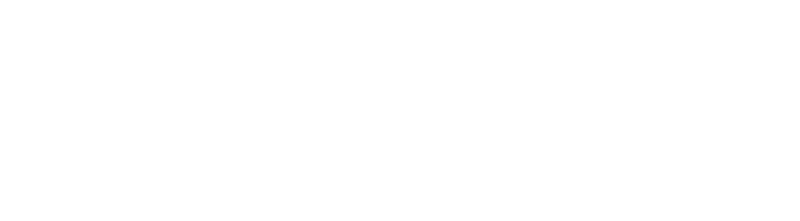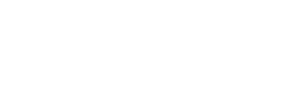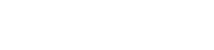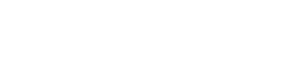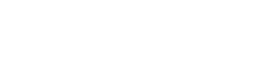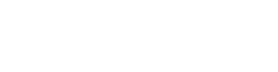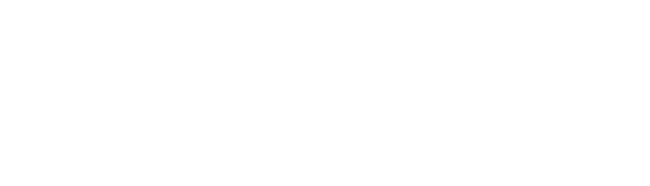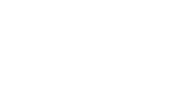Пресс релиз выставки
В начале 1990-х годов Виктора Казарина окрестили «отцом русского неоэкспрессионизма». Крупноформатные холсты с пастозными размашистыми мазками и элементами дриппинга, балансирование на грани между фигуративностью и абстракцией, звучные цветовые сочетания и энергия стихийных ритмов — узнаваемые черты стиля художника. Казарину была чужда аналитическая отстраненность московского концептуализма — магистральной ветви неофициального искусства 1970–1980-х годов. Произведения художника прежде всего оказывают воздействие непосредственно на нервную систему зрителя через такие традиционные для живописи средства выражения, как цвет, форма, богатство фактуры.
Напористые и взрывные композиции Казарина рождались через длительную аккумуляцию эмоционального и физического напряжения с последующим выбросом энергии на холст. Художник добивался определенного состояния сознания, которое сравнимо с «разматыванием нервов» Николая Некрасова, несколько суток проводившего за карточной игрой перед предстоящим поэтическим трудом. Казарин же изнурял себя работой в мастерской по 12–14 часов, доводя до крайней степени эмоциональной взвинченности: он выходил за пределы рационального, позволяя внутреннему хаосу преобразоваться в наслоение цветовых пятен и линий. Художник работал в стесненных условиях малогабаритной комнаты, перемещаясь прямо по холсту большого формата, который располагался на полу. Сокращение дистанции между произведением и автором, пребывающим в состоянии экстатического самозабытья, превращало художественный процесс в телесную, почти шаманскую практику.
Будучи еще юношей, по настоянию отца Казарин устроился шлифовальщиком в Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Этот период стал определяющим в формировании отношения художника к живописи как ремеслу, которое требует полной отдачи.
Первым творческим наставником Казарина уже на излете оттепели стал Сергей Соколов — ученик одного из самых последовательных импрессионистов рубежа XIX–XX веков Константина Коровина. Занятия проходили в изостудии Дома пионеров Первомайского района Москвы в период с 1962 по 1966 год. Соколов выстраивал образовательный процесс прежде всего на основе классических образцов русской реалистической живописи: от Василия Поленова и Исаака Левитана до Аркадия Пластова. Об абстрактном искусстве Казарин узнал только во время обучения на художественно-графическом факультете Московского педагогического института (1966–1971).
Знаковым событием для художника, не достигшего еще и тридцати лет, стало вступление в 1976 году в знаменитый Московский горком графиков. Из-за скандала, последовавшего за разгромом «Бульдозерной выставки» (1974), власти были вынуждены выделить скромное помещение на Малой Грузинской улице, где неофициальные художники получили возможность открыто экспонировать «другое» искусство широкому кругу зрителей. В 1983 году Казарин вступает в группу «21 московский художник», участники которой не были связаны единой стилистической системой, представляя различные художественные направления от абстракции до сюрреализма. В Горкоме графиков состоялось шесть групповых выставок объединения «21 московский художник» с участием Казарина.
Поиск актуального художественного языка и стремление к свободе самовыражения подталкивали Казарина к постоянным экспериментам с техникой и материалами, начиная с масла на холсте и заканчивая коллажами из газетных вырезок и этикеток, включением песка и битума в живописное пространство. Знакомство в 1981 году с Анатолием Зверевым — мастером импровизации и фигурой легендарной в среде московского андеграунда — вскоре переросло в дружбу, а затем и в творческий союз. Оба художника предпочитали работать, располагая холст на полу, но если Зверев оставался в рамках камерного формата и традиционных жанров, то Казарин склонялся к абстрагированию образа, сводя его к одному мотиву, воплощенному в монументальной форме. В середине 1980-х годов складывается стиль Казарина, впитавшего зверевский импровизационный подход, легкость и свободу художественного жеста, но сохранившего при этом самобытный узнаваемый почерк. Совместная творческая практика художников вылилась в серию работ 1986 года, подписанных КАЗ, КЗ, КА-АЗ (Казарин — Зверев).
В начале 1990-х годов Виктор Казарин становится одним из самых успешных художников Москвы: персональные выставочные проекты следуют один за другим. В 1991 году состоялась выставка в московском Манеже, получившая широкий резонанс. Казарин представил публике около 600 крупноформатных холстов, которые отображали не только свободолюбие и напористый темперамент художника, но и дух времени — общий анархический настрой эпохи перестройки.
В экспозиции выставки «Структуры непокоя» представлены произведения Виктора Казарина 1980–1990-х годов — периода интенсивных экспериментов и обретения узнаваемого авторского стиля. Искусство художника — чистая импровизация, решительная и смелая. Через стихийную энергию ритмов и цветовых пятен он погружает зрителя в состояние эмоционального шока, телесного ощущения присутствия неподвластных рациональному осмыслению сил.
В начале 1990-х годов Виктора Казарина окрестили «отцом русского неоэкспрессионизма». Крупноформатные холсты с пастозными размашистыми мазками и элементами дриппинга, балансирование на грани между фигуративностью и абстракцией, звучные цветовые сочетания и энергия стихийных ритмов — узнаваемые черты стиля художника. Казарину была чужда аналитическая отстраненность московского концептуализма — магистральной ветви неофициального искусства 1970–1980-х годов. Произведения художника прежде всего оказывают воздействие непосредственно на нервную систему зрителя через такие традиционные для живописи средства выражения, как цвет, форма, богатство фактуры.
Напористые и взрывные композиции Казарина рождались через длительную аккумуляцию эмоционального и физического напряжения с последующим выбросом энергии на холст. Художник добивался определенного состояния сознания, которое сравнимо с «разматыванием нервов» Николая Некрасова, несколько суток проводившего за карточной игрой перед предстоящим поэтическим трудом. Казарин же изнурял себя работой в мастерской по 12–14 часов, доводя до крайней степени эмоциональной взвинченности: он выходил за пределы рационального, позволяя внутреннему хаосу преобразоваться в наслоение цветовых пятен и линий. Художник работал в стесненных условиях малогабаритной комнаты, перемещаясь прямо по холсту большого формата, который располагался на полу. Сокращение дистанции между произведением и автором, пребывающим в состоянии экстатического самозабытья, превращало художественный процесс в телесную, почти шаманскую практику.
Будучи еще юношей, по настоянию отца Казарин устроился шлифовальщиком в Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Этот период стал определяющим в формировании отношения художника к живописи как ремеслу, которое требует полной отдачи.
Первым творческим наставником Казарина уже на излете оттепели стал Сергей Соколов — ученик одного из самых последовательных импрессионистов рубежа XIX–XX веков Константина Коровина. Занятия проходили в изостудии Дома пионеров Первомайского района Москвы в период с 1962 по 1966 год. Соколов выстраивал образовательный процесс прежде всего на основе классических образцов русской реалистической живописи: от Василия Поленова и Исаака Левитана до Аркадия Пластова. Об абстрактном искусстве Казарин узнал только во время обучения на художественно-графическом факультете Московского педагогического института (1966–1971).
Знаковым событием для художника, не достигшего еще и тридцати лет, стало вступление в 1976 году в знаменитый Московский горком графиков. Из-за скандала, последовавшего за разгромом «Бульдозерной выставки» (1974), власти были вынуждены выделить скромное помещение на Малой Грузинской улице, где неофициальные художники получили возможность открыто экспонировать «другое» искусство широкому кругу зрителей. В 1983 году Казарин вступает в группу «21 московский художник», участники которой не были связаны единой стилистической системой, представляя различные художественные направления от абстракции до сюрреализма. В Горкоме графиков состоялось шесть групповых выставок объединения «21 московский художник» с участием Казарина.
Поиск актуального художественного языка и стремление к свободе самовыражения подталкивали Казарина к постоянным экспериментам с техникой и материалами, начиная с масла на холсте и заканчивая коллажами из газетных вырезок и этикеток, включением песка и битума в живописное пространство. Знакомство в 1981 году с Анатолием Зверевым — мастером импровизации и фигурой легендарной в среде московского андеграунда — вскоре переросло в дружбу, а затем и в творческий союз. Оба художника предпочитали работать, располагая холст на полу, но если Зверев оставался в рамках камерного формата и традиционных жанров, то Казарин склонялся к абстрагированию образа, сводя его к одному мотиву, воплощенному в монументальной форме. В середине 1980-х годов складывается стиль Казарина, впитавшего зверевский импровизационный подход, легкость и свободу художественного жеста, но сохранившего при этом самобытный узнаваемый почерк. Совместная творческая практика художников вылилась в серию работ 1986 года, подписанных КАЗ, КЗ, КА-АЗ (Казарин — Зверев).
В начале 1990-х годов Виктор Казарин становится одним из самых успешных художников Москвы: персональные выставочные проекты следуют один за другим. В 1991 году состоялась выставка в московском Манеже, получившая широкий резонанс. Казарин представил публике около 600 крупноформатных холстов, которые отображали не только свободолюбие и напористый темперамент художника, но и дух времени — общий анархический настрой эпохи перестройки.
В экспозиции выставки «Структуры непокоя» представлены произведения Виктора Казарина 1980–1990-х годов — периода интенсивных экспериментов и обретения узнаваемого авторского стиля. Искусство художника — чистая импровизация, решительная и смелая. Через стихийную энергию ритмов и цветовых пятен он погружает зрителя в состояние эмоционального шока, телесного ощущения присутствия неподвластных рациональному осмыслению сил.
ВИКТОР КАЗАРИН. Вступительное слово
Татьяна Карпова
Заместитель генерального директора
Государственной Третьяковской галереи по научной работе
Персональная выставка Виктора Казарина (1948-2021) – первый развернутый показ творчества художника в Третьяковской галерее.
Для экспозиции под названием «Структуры непокоя» мы выбрали произведения 1980-х – 1990-х годов из собрания семьи художника и коллекции Галереи.1 Это самые плодотворные годы творчества, время обретения своего авторского стиля. «Я хотел писать как дышать, свободно и легко. Но мне не хватало знания языка живописи в полной мере. Начались поиски, эксперименты» - вспоминал Виктор Семенович.2
В качестве ориентиров и источников вдохновения Казарин называл Феофана Грека, Михаила Врубеля, Ван Гога. Художник говорил: «Ван Гога я почувствовал физически: судорогой пробежавшей по спине… «Экспрессионизм – выражение души», прочел я однажды в словаре. Тогда я понял: экспрессионизм – это мой путь…»3
В.С.Турчин, выделил в русском искусстве пунктирную пульсирующую линию «одухотворенного раннего экспрессионизма», идущую от Ге к Врубелю, от Врубеля к Кандинскому, которая «являлась местом сбора неких энергий духовного качества, ощущая выход из проблематики XIX века к вопросам ХХ столетия, и, соответственно, соединяющая эти века».4 В 1920-е годы на этой пунктирной пульсирующей линии появляется легендарная группа «Маковец» (1921-1927) – объединившая московских художников, философов, поэтов. В.И.Ракитин в статье к каталогу выставки Василия Чекрыгина в 1992 году в Кельне писал: «… история экспрессионизма в России, в отличие от немецкой культуры- это не строгие, логически и эмоционально определенные линии развития,.. а эстафета от имени к имени, постоянный эмоциональный фон художественной жизни».5 В «эстафту», начатую Ге, Ракитин включает отдельные работы Врубеля, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Павла Филонова, Василия Чекрыгина. На этой пульсирующей линии русского экспрессионизма стоит и творчество Казарина.
Из современников рядом с работами Казарина вспоминаются экспрессивные абстракции Ансельма Кифера, работы Джексона Поллака, граффити Жанна-Мишеля Баскии. Эти художники научили Казарина свободе. В этом ряду должен стоять и русский художник Анатолий Зверев, который был другом Казарина.
В творчестве Казарина перед нами предстает мир при вспышке молнии, разломанный, расколотый, бессонный, не знающий покоя. Импровизации, чистая стихия живописи на холстах большого формата как будто вне контроля воли автора магнитизируют энергией стихийных ритмов. Решительность и смелость авторской манеры, экстатическое вдохновение, состояние полного самозабвения, в котором создавались эти работы, повергают зрителя в состояние эмоционального шока. Их энергию мы буквально чувствуем кожей и нервами, увлеченные потоком стремительных линий и мазков, творимой будто на их глазах фантасмагорией творчества.
Творчество Казарина драматично по своей сути. Через столкновения и разломы форм, линий, красок мы ощущаем страдание и муки человеческой души, глубокие пропасти, мрак отчаяния, свет надежды, порывы духа… Становимся свидетелями грандиозной битвы освобожденных стихий Тьмы и Света, Огня и Воздуха. Перед нами предстает мир на пороге Апокалипсиса. На картинах художника деревья, здания, предметы, животные, люди захвачены вихревыми потоками, которые грозят унести их с лица Земли. Художник словно торопится зафиксировать момент озарения, открывшейся истины о мире, будущем, Космосе.
Виктор Казарин работал без палитры, смешивал краски сразу на холсте, без эскизов. Цвет в его картинах проводник энергии, как и ритм и линия. Казарин не терпит вялых цветовых сочетаний, его красочные аккорды максимально звучные, подчас намеренно диссонирующие, но всегда точные, внутренне осмысленные. Все перечисленные важнейшие для Казарина изобразительные средства, насыщенные энергиями неведомого генератора, - фактура, ритм, цвет – создают вибрирующую поверхность холста. И это полное слияние содержания и формы убеждает, завораживает.
Искусство Казарина – это искусство откровений, пробуждающее ото сна, заряжающее энергией, зрячее и непреклонное, призывающее вырываться из оков разочарования и духовного сна, прорваться сквозь косность и ограниченность человека к последней Истине.
1 В собрании ГТГ находятся 28 работ В.С.Казарина.
2. Неоэкспрессионизм. Виктор Казарин. Киев. 1999.
3 Там же.
4 Турчин В.С. Ге + Врубель + Кандинский = . . . // Сб. Николай Ге. Вектор судьбы и творчества. Материалы научной конференции. Архивные публикации. ГИИ, ГТГ. М., 2014. С.241.
5 Цит. по: Мурина Е., Ракинин В. Василий Николаевич Чекрыгин. М., 2005. С.9.
Татьяна Карпова
Заместитель генерального директора
Государственной Третьяковской галереи по научной работе
Персональная выставка Виктора Казарина (1948-2021) – первый развернутый показ творчества художника в Третьяковской галерее.
Для экспозиции под названием «Структуры непокоя» мы выбрали произведения 1980-х – 1990-х годов из собрания семьи художника и коллекции Галереи.1 Это самые плодотворные годы творчества, время обретения своего авторского стиля. «Я хотел писать как дышать, свободно и легко. Но мне не хватало знания языка живописи в полной мере. Начались поиски, эксперименты» - вспоминал Виктор Семенович.2
В качестве ориентиров и источников вдохновения Казарин называл Феофана Грека, Михаила Врубеля, Ван Гога. Художник говорил: «Ван Гога я почувствовал физически: судорогой пробежавшей по спине… «Экспрессионизм – выражение души», прочел я однажды в словаре. Тогда я понял: экспрессионизм – это мой путь…»3
В.С.Турчин, выделил в русском искусстве пунктирную пульсирующую линию «одухотворенного раннего экспрессионизма», идущую от Ге к Врубелю, от Врубеля к Кандинскому, которая «являлась местом сбора неких энергий духовного качества, ощущая выход из проблематики XIX века к вопросам ХХ столетия, и, соответственно, соединяющая эти века».4 В 1920-е годы на этой пунктирной пульсирующей линии появляется легендарная группа «Маковец» (1921-1927) – объединившая московских художников, философов, поэтов. В.И.Ракитин в статье к каталогу выставки Василия Чекрыгина в 1992 году в Кельне писал: «… история экспрессионизма в России, в отличие от немецкой культуры- это не строгие, логически и эмоционально определенные линии развития,.. а эстафета от имени к имени, постоянный эмоциональный фон художественной жизни».5 В «эстафту», начатую Ге, Ракитин включает отдельные работы Врубеля, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Павла Филонова, Василия Чекрыгина. На этой пульсирующей линии русского экспрессионизма стоит и творчество Казарина.
Из современников рядом с работами Казарина вспоминаются экспрессивные абстракции Ансельма Кифера, работы Джексона Поллака, граффити Жанна-Мишеля Баскии. Эти художники научили Казарина свободе. В этом ряду должен стоять и русский художник Анатолий Зверев, который был другом Казарина.
В творчестве Казарина перед нами предстает мир при вспышке молнии, разломанный, расколотый, бессонный, не знающий покоя. Импровизации, чистая стихия живописи на холстах большого формата как будто вне контроля воли автора магнитизируют энергией стихийных ритмов. Решительность и смелость авторской манеры, экстатическое вдохновение, состояние полного самозабвения, в котором создавались эти работы, повергают зрителя в состояние эмоционального шока. Их энергию мы буквально чувствуем кожей и нервами, увлеченные потоком стремительных линий и мазков, творимой будто на их глазах фантасмагорией творчества.
Творчество Казарина драматично по своей сути. Через столкновения и разломы форм, линий, красок мы ощущаем страдание и муки человеческой души, глубокие пропасти, мрак отчаяния, свет надежды, порывы духа… Становимся свидетелями грандиозной битвы освобожденных стихий Тьмы и Света, Огня и Воздуха. Перед нами предстает мир на пороге Апокалипсиса. На картинах художника деревья, здания, предметы, животные, люди захвачены вихревыми потоками, которые грозят унести их с лица Земли. Художник словно торопится зафиксировать момент озарения, открывшейся истины о мире, будущем, Космосе.
Виктор Казарин работал без палитры, смешивал краски сразу на холсте, без эскизов. Цвет в его картинах проводник энергии, как и ритм и линия. Казарин не терпит вялых цветовых сочетаний, его красочные аккорды максимально звучные, подчас намеренно диссонирующие, но всегда точные, внутренне осмысленные. Все перечисленные важнейшие для Казарина изобразительные средства, насыщенные энергиями неведомого генератора, - фактура, ритм, цвет – создают вибрирующую поверхность холста. И это полное слияние содержания и формы убеждает, завораживает.
Искусство Казарина – это искусство откровений, пробуждающее ото сна, заряжающее энергией, зрячее и непреклонное, призывающее вырываться из оков разочарования и духовного сна, прорваться сквозь косность и ограниченность человека к последней Истине.
1 В собрании ГТГ находятся 28 работ В.С.Казарина.
2. Неоэкспрессионизм. Виктор Казарин. Киев. 1999.
3 Там же.
4 Турчин В.С. Ге + Врубель + Кандинский = . . . // Сб. Николай Ге. Вектор судьбы и творчества. Материалы научной конференции. Архивные публикации. ГИИ, ГТГ. М., 2014. С.241.
5 Цит. по: Мурина Е., Ракинин В. Василий Николаевич Чекрыгин. М., 2005. С.9.
Виктор Казарин: попытка историзации
Кирилл Светляков
В российском искусствознании до сих пор распространён подход, который можно назвать вульгарной феноменологией, когда творчество того или иного художника описывается как единственное в своем роде и «глубоко самобытное». Это расхожее определение в сочетании с формальными описаниями работ ничего не объясняет, поскольку художник оказывается как будто бы в вакууме, а если критик и позволяет себе сравнения, то очень комплиментарные – с известнейшими авторами, иногда отдалёнными на целые столетия от того героя, о котором идет речь. Всё это – признаки апологетического жанра, и такая апологетика вредит художникам и разрушает любое представление об истории искусства. В случае Виктора Казарина произошло несколько недоразумений, обусловленных именно отсутствием историзации.
Во-первых, он выпал из сферы внимания исследователей неофициального искусства, поскольку не был связан с какой-либо группой и работал в направлениях, практически ещё не описанных, таких как неоэкспрессионизм и геометрическая абстракция позднесоветского периода. А так называемая группа «21», названая по количеству участников, в составе которой
Казарин показывал свои работы в выставочном зале на Малой Грузинской
во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов, включала в себя очень разных
художников, объединённых разве что своей принадлежностью к организации
Горкома графиков.
Во-вторых, продолжительный эпизод дружеского общения с Анатолием Зверевым в середине 1980-х, безусловно, повлиял на Казарина, что побуждало воспринимать его в качестве эпигона по отношению к более известному мастеру. Художники практиковали совместное творчество и, как правило, подписывали свои работы инициалами КАЗ (Казарин – Анатолий Зверев).
Если говорить о влиянии, то своей импульсивностью и связанными с нею импровизационными подходами Зверев раскрепостил Казарина, который в свою очередь смог масштабировать камерные мотивы своего друга в условиях больших форматов. И если Зверев при всей своей импровизационности все-таки оставался в пределах традиционных жанров портрета,
пейзажа, натюрморта или сюжетной композиции, то Казарин быстро уходил от жанра и ограничивался каким-либо одним мотивом, иногда распыляя его на весь формат.
Оба художника предпочитали работать на полу, но камерные размеры работ всегда позволяли Анатолию Звереву контролировать процесс, и его произведения рассчитаны на дистанцированный взгляд, в то время как Виктор Казарин не имел возможности отхода в малогабаритной комнате и передвигался прямо по холсту, не отделяя себя от произведения.
Это обстоятельство обусловило иной, нежели у Зверева, характер восприятия, предполагающий взгляд изнутри и телесный психофизиологический контакт, с которым связано и нарастание визуальной агрессии, что проявляется в ярких экзальтированных контрастах и ударных взвинченных мазках.
Отмечу, что такая агрессия в целом характерна для всей художественной продукции перестроечного периода, когда представители неофициального искусства начинают выставляться в больших залах для большой аудитории и работают очень быстро. В искусстве Казарина второй половины 1980-х этот выход из Малой Грузинской в большой мир очень заметен: увеличиваются форматы, монохромная сдержанность сменяется цветовым и
ритмическим напором.
Здесь достаточно сравнить работы из серии «Космос I» (1983 ) с размерами 130 х 100 с композицией «Ночная прогулка» (1988) с размерами 200 х 300. Далеко не каждый живописец способен выдержать такой формат, но для Казарина он оказался оптимальным. Меньшие форматы стесняли художника, побуждали к сдержанным решениям, когда картина могла напоминать красивую хорошо исполненную вещицу.
В наследии Казарина есть картина «Полоса» 1981 года, которую при всех ее достоинствах можно отнести к разряду декоративных работ. Это ассамбляж с фрагментом светлой ткани, наклеенной на тёмный оргалит и содержащей две волнообразные полосы, которые могут считываться как линии горизонта. Ткань имеет прямоугольную форму, но с неровными и размахренными краями, чтобы границы касаний с темным фоном казались зыбкими. «Полоса» может ассоциироваться с работами Марка Ротко.
Свой собственный метод Виктор Казарин, как правило, развивает в диалоге с другими художниками, и это не только Анатолий Зверев.
Вторым важным для Казарина собеседником был Борис Бич, который, пройдя увлечение поп-артом, связал свое искусство с геометрической абстракцией. При этом отдельные мотивы из репертуара супрематистов и конструктивистов Бич использовал в качестве эмблем, т.е. он пропустил традицию модернизма через эстетику поп-арта и вошел в режим постмодернистского цитирования. Некоторые работы Казарина, такие как «Ренессанс пространства» (1983), отчасти отсылают к геометрическим композициям
Бориса Бича и, конечно, Казимира Малевича, но свои прямоугольные формы Казарин наклеивает поверх чёрно-белой аморфной композиции, напоминающей текстуру земли. Наклейки похожи на те, что делают реставраторы для закрепления красочного слоя, и таким образом они как будто бы удерживают живописную массу, которая расползается во все стороны.
В 1976 году Борис Бич вместе с Михаилом Чернышевым устроил перформанс «Удвоение I», во время которого художники интегрировали свои картины в природный ландшафт и сами выступили в роли носителей геометрических форм, пришивая их на одежду. А в картине Казарина комбинация наклеек на черном фоне производит подобие антропоморфной фигуры, что проявится и в других более поздних его работах на тему иероглифов. Само название «Ренессанс пространства», возможно, указывает на человеческое измерение, которое возникает в процессе взаимной интеграции техники и органики.
Виктор Казарин вплоть до неразличения стремится объединить крайности «абстракции и вчувствования» – понятий, раскрытых в одноименной книге Вильгельма Воррингера, опубликованной в 1907 году и вдохновившей Василия Кандинского, который первым попытался осуществить подобный синтез, отталкиваясь от пиктограмм на шаманских бубнах.
Для живописи Казарина одним из важных источников становится конспект, поскольку в этом жанре могут сочетаться изображения и знаки, текстовые фрагменты и буквенные сокращения.
Это редкий источник, но некоторые аналогии работам Казарина прослеживаются в искусстве периода «оттепели», например картина «Конспект» (1958) Игоря Куклеса или работы Дмитрия Блохинцева – физика и живописца-любителя. Кроме научных и студенческих записей эстетика «оттепели» также включила в себя и детский рисунок. Сейчас уже трудно судить, насколько Виктор Казарин был погружен в этот контекст, но в любом случае молодость художника пришлась на 1960-е годы, к тому же, имея опыт заводского шлифовальщика, он умел читать схемы и чертежи.
Казарин не мог знать о «Конспекте» Игоря Куклеса, тем более, что такие единичные опыты не имели продолжения.
Название картины «Портрет математика» (1985), казалось бы, предполагает фигуративное или портретное изображение, но в центре возникает подобие синего квадрата или ромба со множеством почеркушек, включая дату, подпись, фрагменты формул. Все они размывают первоначальную геометрическую основу композиции, и в результате формируется некое подобие головы с чертами лица, напоминающими те, что имеют место в детских
рисунках. Таким образом, картина будто бы вбирает элементы и следы человеческой деятельности на разных этапах существования и интеллектуального развития. Все элементы легко перетекают друг в друга, а стабильные конструкции – образные, знаковые и словесные – здесь уже невозможны.
В картине «Мыслитель» (1985) сидящая фигура распространяется на всю
композицию и создает вокруг себя единый ритмический поток.
Этот прием особенно ярко проявляется в анималистических изображениях середины 1980-х – начала 1990-х годов: «Тигр» (1984), картины из серии «Бык» (1984), «Летящая ворона» (1988), «Последний мамонт» (1991) и другие. Некоторые из них напрямую отсылают к наследию палеолита, дописьменной и, возможно, доязыковой стадии в развитии человечества. Казарин пишет не только животных, но также и палеолитических венер в серии на тему
«Богини плодородия» 1984 года.
Первое обращение к доисторическому искусству произошло в экспрессионизме начала ХХ века, и оно было обусловлено открытием древнейших памятников. Вторая волна – это уже неоэкспрессионизм 1970–1980-х годов, одно из ведущих направлений эпохи постмодерна, связанное с концом больших нарративов, девальвацией визуальных языков и кризисом письменной культуры в целом. Поэтому различные варианты пиктограмм появились
в работах западных граффитистов, «новых диких» и представителей трансавангарда. В репертуаре Виктора Казарина можно увидеть преемственность с анималистикой и венерами Михаила Ларионова, который оказал очевидное влияние на практику позднесоветских неоэкспрессионистов, будь то «Новые художники» Тимура Новикова в Ленинграде или участники товарищества «Искусство или смерть» в Ростове-на-Дону.
В определённом смысле авторы 1980-х исполнили заветы Ларионова,
который в своих текстах и публичных высказываниях призывал признавать всё, уравнять в правах творчество профессионалов, дилетантов и детей, а будущую живопись представлял себе как «заборную», вдохновляясь рисунками на стенах и тем самым предвосхищая стрит-арт и граффитизм в современном искусстве.
Конечно, в своей эстетике «нового примитива» Ларионов не использовал образцы эпохи палеолита в отличие, например, от художников объединения «Синий всадник», а в искусстве Виктора Казарина задействование этих образцов будет уже программным. Возможно, это мания нулевого цикла или, что более вероятно, через архаику происходит освобождение от всяческих художественных конвенций, продиктованное в том числе и духом времени – общим анархическим порывом эпохи перестройки, и взрывные композиции Виктора Казарина аккумулируют и отражают этот порыв. Живописную субстанцию художник часто интерпретирует как телесную, а поверхность картины как область болевой чувствительности.
Решающее значение имеет характер резких отрывистых мазков, в которых сохраняется энергия жеста. Именно телесность как новое качество будет отличать искусство второй половины 1980-х от предыдущего «застойного» периода, в котором культивировались иллюзии, видения и отстранённые взгляды. В работах Казарина даже мифологические образы,
в частности зооморфные божества «Бабаконь» (1988) и «Ворона в колеснице» (1991), при всей их условности наделены эффектом материального присутствия. Это миф, который переживается как реальная история.
Конформация между иллюзией и присутствием наметилась в работах, которые условно и собирательно можно отнести к «заборной серии» (памятуя о пророчестве Михаила Ларионова). Такие работы, как «Преодоление пространства» (1984) и «Забор» (1985), содержат комбинации вертикальных и горизонтальных форм черного цвета наподобие тех, что можно увидеть на картинах Франца Кляйна. Но у Казарина они более рваные и нестабильные и вступают в конфронтацию с яркими фонами, словно пытаясь вырваться за пределы картинной плоскости. Поверх этих форм появляются брызги, подтеки или упрощенные рисунки, такие как человеческая фигурка в композиции «Преодоление пространства». Эта фигурка придает черной форме антропоморфный характер. Изображение колеблется между иероглифом и пиктограммой, а первоначальная тема забора и заборных рисунков становится пластической темой перекрывания одних изображений другими. В композиции «Исход» (1984) подобие иероглифа сбивает собою вертикальный ритм полос, буквально вторгаясь в окрашенную поверхность. В этих работах Казарин сталкивает разные подходы, будь то окрашивание, рисование и начертание.
«Заборная» тема Виктора Казарина получит неожиданное продолжение у других художников, которые будут переводить ее в другие медиа.
В 1999 году Антон Ольшванг сделает фотографическую серию «Двери и заборы на улице Безымянка» и в ней покажет старые деревянные заборы как «найденные» скульптуры. В том же году Ольга Чернышева представит свою «Улицу сна» – фотографии с фрагментами металлических кроватей, которые в качестве ограждений использовались владельцами садовых участков. В 2006 году тему будет развивать Дмитрий Гутов в фотосерии «Вокруг самозахваченных участков», где переплетённые проволочные ограждения интерпретируются как варианты абстрактных скульптур. В дальнейшем Гутов обратится к созданию металлоконструкций, чтобы облечь в материальную форму фрагменты рукописей, рисунки Рембрандта и иероглифы кандзи. Таким образом прослеживается парадоксальный путь от живописной идеи Виктора Казарина через фотографии Антона Ольшванга и Ольги Чернышевой к трехмерному воплощению в скульптурах Дмитрия Гутова, и это несмотря на все различия в направлениях, подходах и медиа.
Опыт историзации искусства Казарина позволяет увидеть и оценить художественные процессы как в коротком временном промежутке, так и в более продолжительном периоде. Это значит, мы имеем дело не с «самобытным», экзотическим или маргинальным автором, а с ключевой фигурой, и если она до сих пор не вписана в историю, это значит, что представления о советском и российском искусстве второй половины ХХ века еще очень условны.
Кирилл Светляков
В российском искусствознании до сих пор распространён подход, который можно назвать вульгарной феноменологией, когда творчество того или иного художника описывается как единственное в своем роде и «глубоко самобытное». Это расхожее определение в сочетании с формальными описаниями работ ничего не объясняет, поскольку художник оказывается как будто бы в вакууме, а если критик и позволяет себе сравнения, то очень комплиментарные – с известнейшими авторами, иногда отдалёнными на целые столетия от того героя, о котором идет речь. Всё это – признаки апологетического жанра, и такая апологетика вредит художникам и разрушает любое представление об истории искусства. В случае Виктора Казарина произошло несколько недоразумений, обусловленных именно отсутствием историзации.
Во-первых, он выпал из сферы внимания исследователей неофициального искусства, поскольку не был связан с какой-либо группой и работал в направлениях, практически ещё не описанных, таких как неоэкспрессионизм и геометрическая абстракция позднесоветского периода. А так называемая группа «21», названая по количеству участников, в составе которой
Казарин показывал свои работы в выставочном зале на Малой Грузинской
во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов, включала в себя очень разных
художников, объединённых разве что своей принадлежностью к организации
Горкома графиков.
Во-вторых, продолжительный эпизод дружеского общения с Анатолием Зверевым в середине 1980-х, безусловно, повлиял на Казарина, что побуждало воспринимать его в качестве эпигона по отношению к более известному мастеру. Художники практиковали совместное творчество и, как правило, подписывали свои работы инициалами КАЗ (Казарин – Анатолий Зверев).
Если говорить о влиянии, то своей импульсивностью и связанными с нею импровизационными подходами Зверев раскрепостил Казарина, который в свою очередь смог масштабировать камерные мотивы своего друга в условиях больших форматов. И если Зверев при всей своей импровизационности все-таки оставался в пределах традиционных жанров портрета,
пейзажа, натюрморта или сюжетной композиции, то Казарин быстро уходил от жанра и ограничивался каким-либо одним мотивом, иногда распыляя его на весь формат.
Оба художника предпочитали работать на полу, но камерные размеры работ всегда позволяли Анатолию Звереву контролировать процесс, и его произведения рассчитаны на дистанцированный взгляд, в то время как Виктор Казарин не имел возможности отхода в малогабаритной комнате и передвигался прямо по холсту, не отделяя себя от произведения.
Это обстоятельство обусловило иной, нежели у Зверева, характер восприятия, предполагающий взгляд изнутри и телесный психофизиологический контакт, с которым связано и нарастание визуальной агрессии, что проявляется в ярких экзальтированных контрастах и ударных взвинченных мазках.
Отмечу, что такая агрессия в целом характерна для всей художественной продукции перестроечного периода, когда представители неофициального искусства начинают выставляться в больших залах для большой аудитории и работают очень быстро. В искусстве Казарина второй половины 1980-х этот выход из Малой Грузинской в большой мир очень заметен: увеличиваются форматы, монохромная сдержанность сменяется цветовым и
ритмическим напором.
Здесь достаточно сравнить работы из серии «Космос I» (1983 ) с размерами 130 х 100 с композицией «Ночная прогулка» (1988) с размерами 200 х 300. Далеко не каждый живописец способен выдержать такой формат, но для Казарина он оказался оптимальным. Меньшие форматы стесняли художника, побуждали к сдержанным решениям, когда картина могла напоминать красивую хорошо исполненную вещицу.
В наследии Казарина есть картина «Полоса» 1981 года, которую при всех ее достоинствах можно отнести к разряду декоративных работ. Это ассамбляж с фрагментом светлой ткани, наклеенной на тёмный оргалит и содержащей две волнообразные полосы, которые могут считываться как линии горизонта. Ткань имеет прямоугольную форму, но с неровными и размахренными краями, чтобы границы касаний с темным фоном казались зыбкими. «Полоса» может ассоциироваться с работами Марка Ротко.
Свой собственный метод Виктор Казарин, как правило, развивает в диалоге с другими художниками, и это не только Анатолий Зверев.
Вторым важным для Казарина собеседником был Борис Бич, который, пройдя увлечение поп-артом, связал свое искусство с геометрической абстракцией. При этом отдельные мотивы из репертуара супрематистов и конструктивистов Бич использовал в качестве эмблем, т.е. он пропустил традицию модернизма через эстетику поп-арта и вошел в режим постмодернистского цитирования. Некоторые работы Казарина, такие как «Ренессанс пространства» (1983), отчасти отсылают к геометрическим композициям
Бориса Бича и, конечно, Казимира Малевича, но свои прямоугольные формы Казарин наклеивает поверх чёрно-белой аморфной композиции, напоминающей текстуру земли. Наклейки похожи на те, что делают реставраторы для закрепления красочного слоя, и таким образом они как будто бы удерживают живописную массу, которая расползается во все стороны.
В 1976 году Борис Бич вместе с Михаилом Чернышевым устроил перформанс «Удвоение I», во время которого художники интегрировали свои картины в природный ландшафт и сами выступили в роли носителей геометрических форм, пришивая их на одежду. А в картине Казарина комбинация наклеек на черном фоне производит подобие антропоморфной фигуры, что проявится и в других более поздних его работах на тему иероглифов. Само название «Ренессанс пространства», возможно, указывает на человеческое измерение, которое возникает в процессе взаимной интеграции техники и органики.
Виктор Казарин вплоть до неразличения стремится объединить крайности «абстракции и вчувствования» – понятий, раскрытых в одноименной книге Вильгельма Воррингера, опубликованной в 1907 году и вдохновившей Василия Кандинского, который первым попытался осуществить подобный синтез, отталкиваясь от пиктограмм на шаманских бубнах.
Для живописи Казарина одним из важных источников становится конспект, поскольку в этом жанре могут сочетаться изображения и знаки, текстовые фрагменты и буквенные сокращения.
Это редкий источник, но некоторые аналогии работам Казарина прослеживаются в искусстве периода «оттепели», например картина «Конспект» (1958) Игоря Куклеса или работы Дмитрия Блохинцева – физика и живописца-любителя. Кроме научных и студенческих записей эстетика «оттепели» также включила в себя и детский рисунок. Сейчас уже трудно судить, насколько Виктор Казарин был погружен в этот контекст, но в любом случае молодость художника пришлась на 1960-е годы, к тому же, имея опыт заводского шлифовальщика, он умел читать схемы и чертежи.
Казарин не мог знать о «Конспекте» Игоря Куклеса, тем более, что такие единичные опыты не имели продолжения.
Название картины «Портрет математика» (1985), казалось бы, предполагает фигуративное или портретное изображение, но в центре возникает подобие синего квадрата или ромба со множеством почеркушек, включая дату, подпись, фрагменты формул. Все они размывают первоначальную геометрическую основу композиции, и в результате формируется некое подобие головы с чертами лица, напоминающими те, что имеют место в детских
рисунках. Таким образом, картина будто бы вбирает элементы и следы человеческой деятельности на разных этапах существования и интеллектуального развития. Все элементы легко перетекают друг в друга, а стабильные конструкции – образные, знаковые и словесные – здесь уже невозможны.
В картине «Мыслитель» (1985) сидящая фигура распространяется на всю
композицию и создает вокруг себя единый ритмический поток.
Этот прием особенно ярко проявляется в анималистических изображениях середины 1980-х – начала 1990-х годов: «Тигр» (1984), картины из серии «Бык» (1984), «Летящая ворона» (1988), «Последний мамонт» (1991) и другие. Некоторые из них напрямую отсылают к наследию палеолита, дописьменной и, возможно, доязыковой стадии в развитии человечества. Казарин пишет не только животных, но также и палеолитических венер в серии на тему
«Богини плодородия» 1984 года.
Первое обращение к доисторическому искусству произошло в экспрессионизме начала ХХ века, и оно было обусловлено открытием древнейших памятников. Вторая волна – это уже неоэкспрессионизм 1970–1980-х годов, одно из ведущих направлений эпохи постмодерна, связанное с концом больших нарративов, девальвацией визуальных языков и кризисом письменной культуры в целом. Поэтому различные варианты пиктограмм появились
в работах западных граффитистов, «новых диких» и представителей трансавангарда. В репертуаре Виктора Казарина можно увидеть преемственность с анималистикой и венерами Михаила Ларионова, который оказал очевидное влияние на практику позднесоветских неоэкспрессионистов, будь то «Новые художники» Тимура Новикова в Ленинграде или участники товарищества «Искусство или смерть» в Ростове-на-Дону.
В определённом смысле авторы 1980-х исполнили заветы Ларионова,
который в своих текстах и публичных высказываниях призывал признавать всё, уравнять в правах творчество профессионалов, дилетантов и детей, а будущую живопись представлял себе как «заборную», вдохновляясь рисунками на стенах и тем самым предвосхищая стрит-арт и граффитизм в современном искусстве.
Конечно, в своей эстетике «нового примитива» Ларионов не использовал образцы эпохи палеолита в отличие, например, от художников объединения «Синий всадник», а в искусстве Виктора Казарина задействование этих образцов будет уже программным. Возможно, это мания нулевого цикла или, что более вероятно, через архаику происходит освобождение от всяческих художественных конвенций, продиктованное в том числе и духом времени – общим анархическим порывом эпохи перестройки, и взрывные композиции Виктора Казарина аккумулируют и отражают этот порыв. Живописную субстанцию художник часто интерпретирует как телесную, а поверхность картины как область болевой чувствительности.
Решающее значение имеет характер резких отрывистых мазков, в которых сохраняется энергия жеста. Именно телесность как новое качество будет отличать искусство второй половины 1980-х от предыдущего «застойного» периода, в котором культивировались иллюзии, видения и отстранённые взгляды. В работах Казарина даже мифологические образы,
в частности зооморфные божества «Бабаконь» (1988) и «Ворона в колеснице» (1991), при всей их условности наделены эффектом материального присутствия. Это миф, который переживается как реальная история.
Конформация между иллюзией и присутствием наметилась в работах, которые условно и собирательно можно отнести к «заборной серии» (памятуя о пророчестве Михаила Ларионова). Такие работы, как «Преодоление пространства» (1984) и «Забор» (1985), содержат комбинации вертикальных и горизонтальных форм черного цвета наподобие тех, что можно увидеть на картинах Франца Кляйна. Но у Казарина они более рваные и нестабильные и вступают в конфронтацию с яркими фонами, словно пытаясь вырваться за пределы картинной плоскости. Поверх этих форм появляются брызги, подтеки или упрощенные рисунки, такие как человеческая фигурка в композиции «Преодоление пространства». Эта фигурка придает черной форме антропоморфный характер. Изображение колеблется между иероглифом и пиктограммой, а первоначальная тема забора и заборных рисунков становится пластической темой перекрывания одних изображений другими. В композиции «Исход» (1984) подобие иероглифа сбивает собою вертикальный ритм полос, буквально вторгаясь в окрашенную поверхность. В этих работах Казарин сталкивает разные подходы, будь то окрашивание, рисование и начертание.
«Заборная» тема Виктора Казарина получит неожиданное продолжение у других художников, которые будут переводить ее в другие медиа.
В 1999 году Антон Ольшванг сделает фотографическую серию «Двери и заборы на улице Безымянка» и в ней покажет старые деревянные заборы как «найденные» скульптуры. В том же году Ольга Чернышева представит свою «Улицу сна» – фотографии с фрагментами металлических кроватей, которые в качестве ограждений использовались владельцами садовых участков. В 2006 году тему будет развивать Дмитрий Гутов в фотосерии «Вокруг самозахваченных участков», где переплетённые проволочные ограждения интерпретируются как варианты абстрактных скульптур. В дальнейшем Гутов обратится к созданию металлоконструкций, чтобы облечь в материальную форму фрагменты рукописей, рисунки Рембрандта и иероглифы кандзи. Таким образом прослеживается парадоксальный путь от живописной идеи Виктора Казарина через фотографии Антона Ольшванга и Ольги Чернышевой к трехмерному воплощению в скульптурах Дмитрия Гутова, и это несмотря на все различия в направлениях, подходах и медиа.
Опыт историзации искусства Казарина позволяет увидеть и оценить художественные процессы как в коротком временном промежутке, так и в более продолжительном периоде. Это значит, мы имеем дело не с «самобытным», экзотическим или маргинальным автором, а с ключевой фигурой, и если она до сих пор не вписана в историю, это значит, что представления о советском и российском искусстве второй половины ХХ века еще очень условны.
Неистовая одержимость
Дмитрий Каварга
Художник Виктор Казарин – это предельно целеустремленная и вместе с тем обладающая взрывным противоречивым характером личность.
Впрочем, на протяжении творческого пути, все имеющиеся противоречия он присовокупил к своей целостности, заострив ее местами почти до карикатурности. Практически все время своей жизни он посвятил живописи, подготовке к ней и отдыху от нее перед следующим циклом, начинающимся утром нового дня. Все остальное считалось им излишним, отвлекающим внимание от главного. При этой кажущейся рутинно-деспотичной простоте творческого досуга на фоне вычищенной до стерильности жизненной событийности художник сохранял высокую плодотворность до конца пути.
В представленной выставке «Структуры непокоя» мы скомпоновали один из ракурсов, вычленив его из обширного разнообразия в качестве сердцевины. На протяжении именно этого периода, как мне видится, Виктор Казарин выкристаллизовал фундаментальные грани своего творческого метода и, вооруженный им, сумел заглянуть куда-то туда, в таящееся глубоко внутри человеческого сознания…
О методе он говорил много и всегда. Его фраза «живописать надо так же легко, как дышать» уже указывает именно на процесс, а не на результат.
Были в его арсенале и более радикальные творческие методики. «Пила» – прием, с помощью которого он достигал особого состояния сознания, позволявшего снимать контроль рационального, высвобождая внутренний хаос.
Суть метода заключалась в телесных и умственных перегрузках, вызванных непрерывной работой в мастерской по 12-14 часов ежедневно и при употреблении допинга в виде крепкого чая, кофе и алкоголя. Это приводило к критическому расшатыванию нервной системы и обострению моторики всех функций организма. Где-то на гребнях пиковых значений восприятия художник пытался вырваться за пределы себя. Работая при этом в замкнутом периметре комнаты 20 кв. метров, он создавал многие десятки холстов 2 х 3 метра. Чтобы жидкая масляная краска схватывалась быстрее, в нее обильно подмешивался сиккатив, и как только ее текучесть превращалась в вязкость, холст, отяжеленный пространствами и сущностями, подвешивался на специальные крючья на стене под потолком, уступая место на полу новому полотну.
Еще один часто упоминаемый термин – «состояние вызванного вдохновения». Как правило, день художника начинался с контрастного душа с преобладанием максимально холодного. Затем бесконечные бодрые шаги по коридору в мастерскую и обратно к открытому окну кухни. Сигареты и чай, шаги, напевание каких-то нелепых мелодий и бубнение, снова шаги, кофе
и сигареты, долгое вглядывание в оконный проем и опять ускоряющиеся шаги, почти переходящие в бег. Дрожащие пальцы рук, расширенные глаза, нервозность, вид человека в состоянии одержимости дикой фантазией или долгожданной и безудержной идеей. Подобная подготовка могла длиться два-три часа и завершалась одним и тем же – ритмом яростных ударов кисти по плоскости картины, доносящихся из мастерской, характерным
звуком переступания по холсту и отлипающих от свежей краски на нем подошв кроссовок.
Сам процесс обращения холста и красок в картину длился быстрее настройки, он происходил, что называется, на одном дыхании и являлся кульминацией подготовки, длящейся еще с минувшего вечера. Это живая телесная практика, призванная особым образом взбалтывать
энергетику и оживлять интуицию, что позволяло художнику концентрировать творческое внимание до состояния, напоминающего эйфорию. Того самого вдохновения, которого, как правило, ждут годами, а затем вспоминают о снизошедшем счастливом мгновении до конца дней.
Я бы назвал эти приёмы шаманскими практиками, наподобие тех, что используют настоящие шаманы для погружения в состояние транса… И здесь интересно, что художник шел к ним вслепую на ощупь, в его окружении не встречалось ничего подобного, тем более что это период 70–80-х годов, когда вокруг царила так называемая эпоха застоя с заседаниями Политбюро КПСС по телевизору и всем сопутствующим нарративом.
В московской художественной среде тех лет на фоне засилья социалистического реализма островком свободы являлась лишь живописная секция Горкома графиков с небольшими подвальными залами на Малой Грузинской. Но и там, среди довольно разношерстного в своих творческих поисках сообщества художников, было сложно найти единомышленников.
Единственным соратником и другом стал для Виктора Анатолий Зверев на излете своих лет. Зверевская поэтичность, легкость и раскрепощенная виртуозность повстречалась с казаринским неистовством, радикальной устремленностью и психологизмом. Это был короткий, но очень насыщенный и счастливый период для них обоих. Тимофеич не имел собственной мастерской, красок и холстов, он уже много лет «скитался», обильно и щедро сея там и тут кусочки своей внутренней свободы в виде многочисленных портретов
и случайных рисунков, чем придется. И вот постепенно он включился в работу по-настоящему, на больших холстах стали появляться диковинные птицы, мчащиеся лошади, задумчивые черепахи, какие-то совсем фантастические экспрессивные сущности, выпрыгивающие из футуристических пейзажей.
Художники создавали их вместе, колдуя и импровизируя над одним холстом по очереди, под бесконечные шутки, тут же сочиняемые стихи и шампанское. Слыша из мастерской всё это творческое бурление, обильно приправленное смехом, становилось понятно, что казаринская концентрированная тревожность отступила, уступив место легкости, частички которой, после ухода Зверева, он сохранил в себе уже навсегда.
Можно сказать и иначе: Зверев был виртуозным рисовальщиком, и его танцующая линия являлась сутью образа жизни этого замечательного мастера. Казарин направил творческое внимание на психологию воздействия цвета как основного медиа своей художественной практики.
Впрочем, на выставке «Структуры непокоя» представлен срез развития художника Виктора Казарина, лишенный какого-либо влияния Зверева, так, если бы они не были знакомы вовсе.
Большинство выставленных работ относится к периоду 1980–1990 годов.
Именно тогда, в начале 80-х, художник перешел от привычной палитры к большим банкам с жидкоразведенными скипидаром красками. Банки стояли прямо на полу мастерской, и в каждой плавала своя группа разноразмерных кистей. Холст, какого бы формата он ни был, всегда укладывался тут же, близ банок.
Если он стремился к разрастанию на все пространство пола, художник ходил прямо по полотну, выплескивая яркие жидкости красок, проскребая мастихином их наслоения и давя объемные линии цвета прямо из свинцовых тюбиков.
Основа создаваемого ощущения, сама суть картины формировалась сочетанием цветовых пятен, их больших и малых всполохов. Именно цветовой образ торит глубину пространства переживания Виктора Казарина. Ритм линий, мазки и фактура придают этому образу телесность и узнаваемость. И лишь поверх всего, в редких случаях, появляется некая «литературность» в виде фигур, скрижалей и даже довольно замысловатых сюжетов, призванных уточнить и указать путь к восприятию. Она напоминает сеть,
накинутую поверх зияющей флуктуирующими цветными воронками глубины. В качестве примера можно взглянуть на работу «Дорога в иные миры», где эта слоистость, пожалуй, очевидна.
Цвет, являясь чистой абстракцией и проникая в нас через глаза, разливается в сознании своей особой неосязаемой сутью. Вне зависимости от нашей воли он схватывает и погружает в сложные настроенческие порталы, активирующие еще более затейливые мыслительные конфигурации. Через моторику восприятия цветовых пятен и плоскостей мы способны
прочувствованно размышлять об образах и формах, определяющих нас как человеческих существ. Виктор Казарин посвятил себя практике исследования этих воздействий, отдав ей все имеющееся без остатка...
Дмитрий Каварга. Художник
Дмитрий Каварга
Художник Виктор Казарин – это предельно целеустремленная и вместе с тем обладающая взрывным противоречивым характером личность.
Впрочем, на протяжении творческого пути, все имеющиеся противоречия он присовокупил к своей целостности, заострив ее местами почти до карикатурности. Практически все время своей жизни он посвятил живописи, подготовке к ней и отдыху от нее перед следующим циклом, начинающимся утром нового дня. Все остальное считалось им излишним, отвлекающим внимание от главного. При этой кажущейся рутинно-деспотичной простоте творческого досуга на фоне вычищенной до стерильности жизненной событийности художник сохранял высокую плодотворность до конца пути.
В представленной выставке «Структуры непокоя» мы скомпоновали один из ракурсов, вычленив его из обширного разнообразия в качестве сердцевины. На протяжении именно этого периода, как мне видится, Виктор Казарин выкристаллизовал фундаментальные грани своего творческого метода и, вооруженный им, сумел заглянуть куда-то туда, в таящееся глубоко внутри человеческого сознания…
О методе он говорил много и всегда. Его фраза «живописать надо так же легко, как дышать» уже указывает именно на процесс, а не на результат.
Были в его арсенале и более радикальные творческие методики. «Пила» – прием, с помощью которого он достигал особого состояния сознания, позволявшего снимать контроль рационального, высвобождая внутренний хаос.
Суть метода заключалась в телесных и умственных перегрузках, вызванных непрерывной работой в мастерской по 12-14 часов ежедневно и при употреблении допинга в виде крепкого чая, кофе и алкоголя. Это приводило к критическому расшатыванию нервной системы и обострению моторики всех функций организма. Где-то на гребнях пиковых значений восприятия художник пытался вырваться за пределы себя. Работая при этом в замкнутом периметре комнаты 20 кв. метров, он создавал многие десятки холстов 2 х 3 метра. Чтобы жидкая масляная краска схватывалась быстрее, в нее обильно подмешивался сиккатив, и как только ее текучесть превращалась в вязкость, холст, отяжеленный пространствами и сущностями, подвешивался на специальные крючья на стене под потолком, уступая место на полу новому полотну.
Еще один часто упоминаемый термин – «состояние вызванного вдохновения». Как правило, день художника начинался с контрастного душа с преобладанием максимально холодного. Затем бесконечные бодрые шаги по коридору в мастерскую и обратно к открытому окну кухни. Сигареты и чай, шаги, напевание каких-то нелепых мелодий и бубнение, снова шаги, кофе
и сигареты, долгое вглядывание в оконный проем и опять ускоряющиеся шаги, почти переходящие в бег. Дрожащие пальцы рук, расширенные глаза, нервозность, вид человека в состоянии одержимости дикой фантазией или долгожданной и безудержной идеей. Подобная подготовка могла длиться два-три часа и завершалась одним и тем же – ритмом яростных ударов кисти по плоскости картины, доносящихся из мастерской, характерным
звуком переступания по холсту и отлипающих от свежей краски на нем подошв кроссовок.
Сам процесс обращения холста и красок в картину длился быстрее настройки, он происходил, что называется, на одном дыхании и являлся кульминацией подготовки, длящейся еще с минувшего вечера. Это живая телесная практика, призванная особым образом взбалтывать
энергетику и оживлять интуицию, что позволяло художнику концентрировать творческое внимание до состояния, напоминающего эйфорию. Того самого вдохновения, которого, как правило, ждут годами, а затем вспоминают о снизошедшем счастливом мгновении до конца дней.
Я бы назвал эти приёмы шаманскими практиками, наподобие тех, что используют настоящие шаманы для погружения в состояние транса… И здесь интересно, что художник шел к ним вслепую на ощупь, в его окружении не встречалось ничего подобного, тем более что это период 70–80-х годов, когда вокруг царила так называемая эпоха застоя с заседаниями Политбюро КПСС по телевизору и всем сопутствующим нарративом.
В московской художественной среде тех лет на фоне засилья социалистического реализма островком свободы являлась лишь живописная секция Горкома графиков с небольшими подвальными залами на Малой Грузинской. Но и там, среди довольно разношерстного в своих творческих поисках сообщества художников, было сложно найти единомышленников.
Единственным соратником и другом стал для Виктора Анатолий Зверев на излете своих лет. Зверевская поэтичность, легкость и раскрепощенная виртуозность повстречалась с казаринским неистовством, радикальной устремленностью и психологизмом. Это был короткий, но очень насыщенный и счастливый период для них обоих. Тимофеич не имел собственной мастерской, красок и холстов, он уже много лет «скитался», обильно и щедро сея там и тут кусочки своей внутренней свободы в виде многочисленных портретов
и случайных рисунков, чем придется. И вот постепенно он включился в работу по-настоящему, на больших холстах стали появляться диковинные птицы, мчащиеся лошади, задумчивые черепахи, какие-то совсем фантастические экспрессивные сущности, выпрыгивающие из футуристических пейзажей.
Художники создавали их вместе, колдуя и импровизируя над одним холстом по очереди, под бесконечные шутки, тут же сочиняемые стихи и шампанское. Слыша из мастерской всё это творческое бурление, обильно приправленное смехом, становилось понятно, что казаринская концентрированная тревожность отступила, уступив место легкости, частички которой, после ухода Зверева, он сохранил в себе уже навсегда.
Можно сказать и иначе: Зверев был виртуозным рисовальщиком, и его танцующая линия являлась сутью образа жизни этого замечательного мастера. Казарин направил творческое внимание на психологию воздействия цвета как основного медиа своей художественной практики.
Впрочем, на выставке «Структуры непокоя» представлен срез развития художника Виктора Казарина, лишенный какого-либо влияния Зверева, так, если бы они не были знакомы вовсе.
Большинство выставленных работ относится к периоду 1980–1990 годов.
Именно тогда, в начале 80-х, художник перешел от привычной палитры к большим банкам с жидкоразведенными скипидаром красками. Банки стояли прямо на полу мастерской, и в каждой плавала своя группа разноразмерных кистей. Холст, какого бы формата он ни был, всегда укладывался тут же, близ банок.
Если он стремился к разрастанию на все пространство пола, художник ходил прямо по полотну, выплескивая яркие жидкости красок, проскребая мастихином их наслоения и давя объемные линии цвета прямо из свинцовых тюбиков.
Основа создаваемого ощущения, сама суть картины формировалась сочетанием цветовых пятен, их больших и малых всполохов. Именно цветовой образ торит глубину пространства переживания Виктора Казарина. Ритм линий, мазки и фактура придают этому образу телесность и узнаваемость. И лишь поверх всего, в редких случаях, появляется некая «литературность» в виде фигур, скрижалей и даже довольно замысловатых сюжетов, призванных уточнить и указать путь к восприятию. Она напоминает сеть,
накинутую поверх зияющей флуктуирующими цветными воронками глубины. В качестве примера можно взглянуть на работу «Дорога в иные миры», где эта слоистость, пожалуй, очевидна.
Цвет, являясь чистой абстракцией и проникая в нас через глаза, разливается в сознании своей особой неосязаемой сутью. Вне зависимости от нашей воли он схватывает и погружает в сложные настроенческие порталы, активирующие еще более затейливые мыслительные конфигурации. Через моторику восприятия цветовых пятен и плоскостей мы способны
прочувствованно размышлять об образах и формах, определяющих нас как человеческих существ. Виктор Казарин посвятил себя практике исследования этих воздействий, отдав ей все имеющееся без остатка...
Дмитрий Каварга. Художник
Бунтарь неоэкспрессионизма.
Владимир Богданов
Каждый год, поздней осенью, обычно в хмуром ноябре раздавался телефонный звонок: «Володя, здравствуй, это Виктор Семенович. Я вернулся в Москву. Есть что показать». Ясно. Казарин уже месяц как приехал из Ферапонтова. И уже сделал свежие живописные серии. Значит, время брать камеру, диктофон и ехать в мастерскую.
Нас познакомили в 2011-м. Казарину было 63, мне – 36. Виктор Семенович был легендой поколения «семидесятников», одной из самых ярких фигур «горкома» на Малой Грузинской 28. Я же тогда работал главным редактором аукционного портала, был увлечен историей «другого искусства» и жадно собирал живые свидетельства современников той эпохи.
Со временем поездки к Казарину превратились в регулярный ритуал. Выходной день. Утро. Тихая Малахитовая улица в московском Ростокино. Мастерская в квартире на первом этаже. Проходим на кухню, где в любую погоду открыто окно. Хозяин ставит чайник. Закуривает. «Что нового в искусстве? Какие выставки понравились? Хорошо ли у нас продаются картины?» Наконец, чай выпит. И вот тогда уж Казарин приглашает в свою комнату-мастерскую. Пол, с многолетними слоями краски, посередине банки с кистями. У стен сохнут ряды новых картин.
Последние лет 15 уклад жизни Казарина был вполне устоявшийся. С первым весенним теплом они с женой уезжали в свой деревенский дом, в 620 км от Москвы, рядом с Ферапонтовым монастырем, известный своими фресками Дионисия. В деревне Казарин занимался только графикой, рисовал гуашью, набирался сил, прорабатывал идеи для будущих картин. А уже осенью возвращался в московскую мастерскую и принимался воплощать ферапонтовские сюжеты на холстах. Работал увлеченно, с полной самоотдачей, жадно. Через месяц после возвращения из деревни он успевал сделать несколько новых тематических циклов – картин на 30-40. И как только материал был наработан на целую выставку, художник приглашал на «спецпоказ». Сам стоял в проеме двери, смотрел с прищуром, ревностно следил за зрительской реакцией. «Что нравится? А почему именно?» И, пожалуй, этот момент контакта с первым зрителем, был самым интересным для художника в нашем общении.
В каждый приезд я расспрашивал Виктора Семеновича о былых временах. Но он в воспоминания пускаться не любил. Рассказывал, когда приходили на память курьезные истории из «горкомовской» жизни – как ругались с начальством, как спорили на развеске работ, и все такое. А больше-то чего про прошлое рассказывать? Ещё все впереди. Нам действительно тогда казалось, что времени у нас -- вагон. Казарин был крепким мужиком, здоровым, работящим, бодрым. Я и не спешил: «Еще десять раз всё успеем: и биографию написать и фильм снять. Куда торопиться то?» А вышло вот как.
Теперь остается довольствоваться тем, что осталось в памяти и на диктофонных записях.
Первым талант юного Вити Казарина заметил Сергей Николаевич Соколов – ученик Константина Коровина. Он преподавал в изостудии Дома пионеров Сталинского района на Площади Журавлева. Он только ставил молодежи рисунок. Соколов водил ребят на выставки Левитана, Поленова, Пластова, объяснял подходы в искусстве на лучших примерах русской классики и соцреализма. «Абстракционизма мы не видели, он тогда не пропагандировался. Об этом направлении я узнал уже в институте», -- вспоминал Казарин. Соколов поддержал желание юноши продолжить учебу в художественном институте. Однако, родители Виктора были категорически против. Одно дело – детский кружок изобразительного искусства, а другое дело – профессия художника на всю жизнь.
«Соколов даже собирался воевать за меня с моим отцом. Но я не позволил. Раз отец сказал – спорить не буду, должна быть субординация» - вспоминал Виктор Семенович. «Отец искусства не понимал. Ему было важно, чтобы человек имел рабочую специальность. Специальность освоил – и получаешь почти как инженер. В те времена квалицированный рабочий очень ценился».
В итоге с отцом заключили уговор: получишь профессиональный разряд – и дальше поступай как знаешь.
Владимир Богданов
Каждый год, поздней осенью, обычно в хмуром ноябре раздавался телефонный звонок: «Володя, здравствуй, это Виктор Семенович. Я вернулся в Москву. Есть что показать». Ясно. Казарин уже месяц как приехал из Ферапонтова. И уже сделал свежие живописные серии. Значит, время брать камеру, диктофон и ехать в мастерскую.
Нас познакомили в 2011-м. Казарину было 63, мне – 36. Виктор Семенович был легендой поколения «семидесятников», одной из самых ярких фигур «горкома» на Малой Грузинской 28. Я же тогда работал главным редактором аукционного портала, был увлечен историей «другого искусства» и жадно собирал живые свидетельства современников той эпохи.
Со временем поездки к Казарину превратились в регулярный ритуал. Выходной день. Утро. Тихая Малахитовая улица в московском Ростокино. Мастерская в квартире на первом этаже. Проходим на кухню, где в любую погоду открыто окно. Хозяин ставит чайник. Закуривает. «Что нового в искусстве? Какие выставки понравились? Хорошо ли у нас продаются картины?» Наконец, чай выпит. И вот тогда уж Казарин приглашает в свою комнату-мастерскую. Пол, с многолетними слоями краски, посередине банки с кистями. У стен сохнут ряды новых картин.
Последние лет 15 уклад жизни Казарина был вполне устоявшийся. С первым весенним теплом они с женой уезжали в свой деревенский дом, в 620 км от Москвы, рядом с Ферапонтовым монастырем, известный своими фресками Дионисия. В деревне Казарин занимался только графикой, рисовал гуашью, набирался сил, прорабатывал идеи для будущих картин. А уже осенью возвращался в московскую мастерскую и принимался воплощать ферапонтовские сюжеты на холстах. Работал увлеченно, с полной самоотдачей, жадно. Через месяц после возвращения из деревни он успевал сделать несколько новых тематических циклов – картин на 30-40. И как только материал был наработан на целую выставку, художник приглашал на «спецпоказ». Сам стоял в проеме двери, смотрел с прищуром, ревностно следил за зрительской реакцией. «Что нравится? А почему именно?» И, пожалуй, этот момент контакта с первым зрителем, был самым интересным для художника в нашем общении.
В каждый приезд я расспрашивал Виктора Семеновича о былых временах. Но он в воспоминания пускаться не любил. Рассказывал, когда приходили на память курьезные истории из «горкомовской» жизни – как ругались с начальством, как спорили на развеске работ, и все такое. А больше-то чего про прошлое рассказывать? Ещё все впереди. Нам действительно тогда казалось, что времени у нас -- вагон. Казарин был крепким мужиком, здоровым, работящим, бодрым. Я и не спешил: «Еще десять раз всё успеем: и биографию написать и фильм снять. Куда торопиться то?» А вышло вот как.
Теперь остается довольствоваться тем, что осталось в памяти и на диктофонных записях.
Первым талант юного Вити Казарина заметил Сергей Николаевич Соколов – ученик Константина Коровина. Он преподавал в изостудии Дома пионеров Сталинского района на Площади Журавлева. Он только ставил молодежи рисунок. Соколов водил ребят на выставки Левитана, Поленова, Пластова, объяснял подходы в искусстве на лучших примерах русской классики и соцреализма. «Абстракционизма мы не видели, он тогда не пропагандировался. Об этом направлении я узнал уже в институте», -- вспоминал Казарин. Соколов поддержал желание юноши продолжить учебу в художественном институте. Однако, родители Виктора были категорически против. Одно дело – детский кружок изобразительного искусства, а другое дело – профессия художника на всю жизнь.
«Соколов даже собирался воевать за меня с моим отцом. Но я не позволил. Раз отец сказал – спорить не буду, должна быть субординация» - вспоминал Виктор Семенович. «Отец искусства не понимал. Ему было важно, чтобы человек имел рабочую специальность. Специальность освоил – и получаешь почти как инженер. В те времена квалицированный рабочий очень ценился».
В итоге с отцом заключили уговор: получишь профессиональный разряд – и дальше поступай как знаешь.
В 1963 году отец Казарина, который сам работал резьбо-шлифовальщиком в Центральном институте авиа и моторостроения имени Баранова, устроил сына к себе на предприятие. Это был, по сути, завод. «Туда брали с 16 лет, без образования. А по блату и с 15 лет, как меня. Работа шлифовальщика была ответственная. Я делал детали для ученых, где нужно было с точностью до микрона размеры ловить. И уже через год меня по заводскому радио объявляли как отличника производства».
Через полтора года работы на заводе (1963-1965), Казарин снова решил поступать в художественный институт. Руководство уговаривало остаться, да и деньги уже хорошие платили, но Казарин решил твердо. «Отцу сказал: «Специальность я освоил, разряд получил, мне кажется, хватит, хочу рисовать». Он дал согласие, чтобы я уволился. Мать была против – семье нужны были деньги. Но я все равно ушел».
Старый учитель Сергей Соколов посоветовал Казарину сдавать экзамены в педагогический: «Поступить легче, а образование все равно нормальное получишь». Впрочем, для успешного поступления потребовалось, как выяснилось, еще серьезная профессиональная реабилитация. «После завода перед поступлением я снова пришел к Соколову. Порисовал. А рука не работает. После тяжестей-то. Карандаш не держится – линию не мог провести. Парень моложе меня (я его знал до завода) – раз-раз, две минуты и нарисовал. Кувшин-тряпка-яблоко. А у меня то толстая, то тонкая линия. Пришлось начинать все сначала. В зоопарк ходил, наброски делал. Перед институтом я полгода работал так, что заболел – дошел до нервного истощения. У меня был график: с утра я делал композицию, натюрморт писал, потом ехал в зоопарк и делал 20-30 набросков. Дальше ехал в студию, там опять делал натюрморт. Потом возвращался домой и перед сном делал композицию. То есть за день я делал всю эту работу. Наверное понимал, что много времени было потеряно. Хотя мне было всего-то 17 лет».
Много позже Казарин признавал, что те полтора года тяжелой работы на заводе, стали во многом определяющими для его понимания работы художника: «Я посмотрел какой на заводе труд, какой износ идет в результате довольно холостой работы, как деньги тяжело достаются. Сравнил с трудом художника. И понял, что надо отдаваться работе и тратить свою энергию так же сильно как рабочий человек. И тратить ее на искусство, а не на труд жизни, коль уж назвался художником».
1966 – 1971 – годы учебы в Педагогическом институте имени Ленина. Казарин поступил на художественно-графический факультет. «Там учили всему, даже столярному делу на кафедре декоративно-прикладного искусства. А готовили учителей. Так что по образованию я учитель рисования, черчения и труда».
Именно здесь, в институте на худграфе в 1969 году прошла первая выставка картин Казарина, написанных, как вспоминал художник под большим впечатлением от творчества Михаила Врубеля.
Примечательно, что из института, куда Казарин так стремился поступить, его чуть было не отчислили. «Мою картину «Человек и цветы», перед защитой некоторые преподаватели назвали антиискусством». Нависла угроза. Но неожиданно работу чужого студента решил поддержать сам лауреат Сталинской премии Василий Ефанов, который в то время преподавал в пединституте. Не просто похвалил, а вызвался лично прийти на дипломную защиту. «И вот ответственный день настал, а Ефанова нет. Катастрофа. А у него зуб заболел, и к началу он не успел. А тут как начали против меня выступать скульптор Писаревский и другие профессора! Один говорит: «А где тут цвет? Я вижу только черноту!» И тут заходит Ефанов с перемотанной челюстью, слышит эти слова, перебивает его: «Какую черноту? Я вижу тут цвет!». И всех по одному отчитал. Те улыбаются как школьники и садятся. Я стою – мне нравится. Поставили четверку. Потом Вере Александровне Дрезниной, моей преподавательнице, Ефанов передал: «Ну ты понимаешь, пятерку после такого они просто не могли тебе поставить»».
В 1971 году, на пятом курсе института Виктор Казарин женился на однокурснице, художнице Лидии Казариной-Малых. В 1972 году у них родился сын. В это же время Казарин проходит призывную службу в мотострелковой части в Приморском крае, в селе Лазо. В 1973 году – демобилизуется и устраивается художником-оформителем в Суворовское училище в Филях. Со стороны эти годы могут показаться творческим «безвременьем». Но на самом деле это был важный период для внутреннего самоопределения и выбора пути. После армии работа над лозунгами и транспарантами отнимала лишь 2-3 дня в неделю. А остальное время Казарин использовал на занятия самостоятельной живописью и творческий поиск. Кстати, именно в это послеармейское время, в середине 1970-х, Казарин вплотную подходит приходит к формулированию своего самобытного экспрессионистского стиля.
1976-й ознаменовался по-настоящему прорывным событием для несистемных художников СССР. В подвале на Малой Грузинской 28, в доме, где жил Высоцкий, начинают показывать выставки под эгидой секции живописи при московском горкоме графиков. На «горкомовских выставках» был заметно снижен градус цензуры. Там позволяли выставляться художникам, которые не работали в жанре соцреализма. То есть многие из тех, кто прежде выставлялся лишь в фойе институтов и на «квартирниках», впервые получили доступ к широкому кругу зрителей. Подвал на Малой Грузинской стал своего рода уступкой властей «неофициальным» художникам после позора с разгромленной «бульдозерной выставкой» 1974 года. По сути, он стал первым оазисом независимого искусства.
Казарин, которому в тот момент было 28 лет, сразу включился в горкомовский выставочный процесс. «Для меня толчок для развития получился дикий. Там были люди, с которыми нужно было конкурировать. В 1976 году я участвовал в горкомовской выставке с картиной «Яуза». Миша Чернышов, который потом в Америку уехал, называл ее «Три бомбы». Там были черные отражения, мистический человек, такой Гоголь и Булгаков». Пёстрый коллектив участников «горкома» стал быстро разбиваться на группы единомышленников: «семерку», «десятку», «двадцатку» и другие. В 1983 году Виктор Казарин присоединился к молодой группе «21», у которой к тому времени уже прошла одна выставка. «Там были и экспрессионисты, и сюрреалисты, абстракционисты — художники, представляющие разные направления. По тем временам это была молодая группа: Николай Вологжанин, Борис Бич, Владимир Наумец, Анатолий Лепин, Александр Туманов, Иван Новоженов, Павел Никифоров, Валерий Ткаченко и другие. Через некоторое время я, можно сказать, вошел в «костяк» группы, который образовали пять человек — Сергей Бордачев, Туманов, Бич, Лепин и я».
Через полтора года работы на заводе (1963-1965), Казарин снова решил поступать в художественный институт. Руководство уговаривало остаться, да и деньги уже хорошие платили, но Казарин решил твердо. «Отцу сказал: «Специальность я освоил, разряд получил, мне кажется, хватит, хочу рисовать». Он дал согласие, чтобы я уволился. Мать была против – семье нужны были деньги. Но я все равно ушел».
Старый учитель Сергей Соколов посоветовал Казарину сдавать экзамены в педагогический: «Поступить легче, а образование все равно нормальное получишь». Впрочем, для успешного поступления потребовалось, как выяснилось, еще серьезная профессиональная реабилитация. «После завода перед поступлением я снова пришел к Соколову. Порисовал. А рука не работает. После тяжестей-то. Карандаш не держится – линию не мог провести. Парень моложе меня (я его знал до завода) – раз-раз, две минуты и нарисовал. Кувшин-тряпка-яблоко. А у меня то толстая, то тонкая линия. Пришлось начинать все сначала. В зоопарк ходил, наброски делал. Перед институтом я полгода работал так, что заболел – дошел до нервного истощения. У меня был график: с утра я делал композицию, натюрморт писал, потом ехал в зоопарк и делал 20-30 набросков. Дальше ехал в студию, там опять делал натюрморт. Потом возвращался домой и перед сном делал композицию. То есть за день я делал всю эту работу. Наверное понимал, что много времени было потеряно. Хотя мне было всего-то 17 лет».
Много позже Казарин признавал, что те полтора года тяжелой работы на заводе, стали во многом определяющими для его понимания работы художника: «Я посмотрел какой на заводе труд, какой износ идет в результате довольно холостой работы, как деньги тяжело достаются. Сравнил с трудом художника. И понял, что надо отдаваться работе и тратить свою энергию так же сильно как рабочий человек. И тратить ее на искусство, а не на труд жизни, коль уж назвался художником».
1966 – 1971 – годы учебы в Педагогическом институте имени Ленина. Казарин поступил на художественно-графический факультет. «Там учили всему, даже столярному делу на кафедре декоративно-прикладного искусства. А готовили учителей. Так что по образованию я учитель рисования, черчения и труда».
Именно здесь, в институте на худграфе в 1969 году прошла первая выставка картин Казарина, написанных, как вспоминал художник под большим впечатлением от творчества Михаила Врубеля.
Примечательно, что из института, куда Казарин так стремился поступить, его чуть было не отчислили. «Мою картину «Человек и цветы», перед защитой некоторые преподаватели назвали антиискусством». Нависла угроза. Но неожиданно работу чужого студента решил поддержать сам лауреат Сталинской премии Василий Ефанов, который в то время преподавал в пединституте. Не просто похвалил, а вызвался лично прийти на дипломную защиту. «И вот ответственный день настал, а Ефанова нет. Катастрофа. А у него зуб заболел, и к началу он не успел. А тут как начали против меня выступать скульптор Писаревский и другие профессора! Один говорит: «А где тут цвет? Я вижу только черноту!» И тут заходит Ефанов с перемотанной челюстью, слышит эти слова, перебивает его: «Какую черноту? Я вижу тут цвет!». И всех по одному отчитал. Те улыбаются как школьники и садятся. Я стою – мне нравится. Поставили четверку. Потом Вере Александровне Дрезниной, моей преподавательнице, Ефанов передал: «Ну ты понимаешь, пятерку после такого они просто не могли тебе поставить»».
В 1971 году, на пятом курсе института Виктор Казарин женился на однокурснице, художнице Лидии Казариной-Малых. В 1972 году у них родился сын. В это же время Казарин проходит призывную службу в мотострелковой части в Приморском крае, в селе Лазо. В 1973 году – демобилизуется и устраивается художником-оформителем в Суворовское училище в Филях. Со стороны эти годы могут показаться творческим «безвременьем». Но на самом деле это был важный период для внутреннего самоопределения и выбора пути. После армии работа над лозунгами и транспарантами отнимала лишь 2-3 дня в неделю. А остальное время Казарин использовал на занятия самостоятельной живописью и творческий поиск. Кстати, именно в это послеармейское время, в середине 1970-х, Казарин вплотную подходит приходит к формулированию своего самобытного экспрессионистского стиля.
1976-й ознаменовался по-настоящему прорывным событием для несистемных художников СССР. В подвале на Малой Грузинской 28, в доме, где жил Высоцкий, начинают показывать выставки под эгидой секции живописи при московском горкоме графиков. На «горкомовских выставках» был заметно снижен градус цензуры. Там позволяли выставляться художникам, которые не работали в жанре соцреализма. То есть многие из тех, кто прежде выставлялся лишь в фойе институтов и на «квартирниках», впервые получили доступ к широкому кругу зрителей. Подвал на Малой Грузинской стал своего рода уступкой властей «неофициальным» художникам после позора с разгромленной «бульдозерной выставкой» 1974 года. По сути, он стал первым оазисом независимого искусства.
Казарин, которому в тот момент было 28 лет, сразу включился в горкомовский выставочный процесс. «Для меня толчок для развития получился дикий. Там были люди, с которыми нужно было конкурировать. В 1976 году я участвовал в горкомовской выставке с картиной «Яуза». Миша Чернышов, который потом в Америку уехал, называл ее «Три бомбы». Там были черные отражения, мистический человек, такой Гоголь и Булгаков». Пёстрый коллектив участников «горкома» стал быстро разбиваться на группы единомышленников: «семерку», «десятку», «двадцатку» и другие. В 1983 году Виктор Казарин присоединился к молодой группе «21», у которой к тому времени уже прошла одна выставка. «Там были и экспрессионисты, и сюрреалисты, абстракционисты — художники, представляющие разные направления. По тем временам это была молодая группа: Николай Вологжанин, Борис Бич, Владимир Наумец, Анатолий Лепин, Александр Туманов, Иван Новоженов, Павел Никифоров, Валерий Ткаченко и другие. Через некоторое время я, можно сказать, вошел в «костяк» группы, который образовали пять человек — Сергей Бордачев, Туманов, Бич, Лепин и я».
К середине 1980-х творчество Казарина пережило важную трансформацию. Пройден первый этап важных экспериментов по синтезу фигуративной живописи и геометрической абстракции. Творческие открытия сделаны, собственный язык найден. Художник полон сил и желания двигаться дальше. Но новая степень свободы творческого самовыражения требовала иного масштаба воплощения. Художнику в один момент стало тесно на холстах «комнатного» формата. Казарин мечтает о настоящем просторе. Окрыленный новыми идеями, в 1984–1985 годах Казарин пишет почти 100 картин исполинского музейного размера 2 на 3 метра.
Для горкома такой масштаб оказался в диковинку.
Художник Анатолий Зверев, впервые увидев исполинскую абстракцию Казарина пошутил: «Если разрезать такую на 100 частей и каждую продать за «поллитру», то получится 100 «поллитры»». Казарин рассердился: «Не понимают!». А через год волей случая Анатолий Тимофеевич уже сам с удовольствием делал полутораметровые экспрессии в квартирной мастерской Казарина на Малахитовой.
Встреча Казарина со Зверевым полна мистических параллелей. Оказалось, они оба учились в студии у Сергея Соколова, только с разницей в 17 лет. Казарин, вспоминал, что у учителя висели рисунки животных, сделанные юным Толей Зверевым, и Соколов о них с гордостью рассказывал. А еще выяснилось, что Зверев и Казарин в молодости независимо друг от друга изобрели и практиковали метод высокоинтенсивного погружения.
Они познакомились в 1981 году в горкоме. Позже именно Казарин пригласил Анатолия Тимофеевича участвовать в выставках их молодой группы «21». А с конца 1985-го до конца 1986-го, то есть почти весь последний год своей жизни, Зверев жил и работал дома у Казарина. Там, в комнате-мастерской на Малахитовой улице ему были созданы все условия: рабочая обстановка, доступ к большим холстам и краскам. Казарин вспоминал, что Зверев в тот год пришел к нему изможденный, обессиленный. Но постепенно энергия мастерской вернула его к жизни. Зверев воспрял, снова с удовольствием начал работать. Изначально камерный художник, он впервые обратился к крупным форматам и создал цикл экспрессиоистских работ размером до полутора метров. В 1986 году Зверев с Казариным сделали знаменитую серию совместных работ. Это была импровизация, когда картины писались буквально «в две руки»: часть делал Зверев, а вторую часть — Казарин. На всех таких работах стоит общая подпись: КАЗ, КЗ или КВ-АЗ
После смерти Зверева в память о друге Виктор Семенович провел несколько выставок «Зверев-Казарин». Возможно, ассоциации с этим названием, а также существенная разница в возрасте, породили разрушительный миф, что Казарин был идейным последователем Зверева и и эксплуатировал его приемы. Виктора Семеновича эти ложные параллели, признаться, сильно задевали: «Мы подружились со Зверевым, когда мне было сильно за 30, я был к тому моменту уже сложившимся художником. Я, конечно, не учился у него технике. Но с интересом изучал и перенимал у него приемы психофизиологии живописи, способ глубокого погружения в работу. Можно сказать, что у Зверева я учился психофизиологии. Но как на художника на меня гораздо большее влияние оказали Врубель, Сутин, Борисов-Мусатов, Шагал, Ван Гог, Гоген, Эль-Греко, Сезанн. И особенно Феофан Грек».
Но вернемся в 1985-й Опыт показа больших картин в горкоме убедил Казарина, что новый материал требует куда большего пространства и совсем иного по размаху выставочного проекта. Подходящей возможности пришло ждать несколько лет. Но в итоге она предоставилась.
Сошлось как нельзя лучше. 1 июня 1991 года персональная выставка Виктора Казарина открылась в московском «Манеже». В огромном пространстве 43-летний художник представил почти 600 картин, многие из которых были шириной три метра. «В маленьком формате я не помещаюсь. Я монументальный художник». Мало кто знал, что Казарин работал над исполинскими холстами в пятнадцатиметровой комнате: «Писал без отхода. Ходил по холстам, и сам мог только с угла посмотреть, что в итоге получилось». Художник вспоминал, что для каждого трехметрового холста он сначала делал серию компактных работ, на которых отрабатывалась психофизиология образа. И только «когда образ был отточен, я мог его переносить на большой формат». Заканчивать работу порой приходилось на улице: художник выносил картины из тесной квартиры, чтобы целиком охватить композицию взглядом.
Выставка в Манеже получила заметный резонанс и позволила Казарину заявить о себе как монументальному художнику.
В январе 1992 года Виктор Казарин закрепил этот успех. Вместе с основанной им художественной группой «Молот» (в тот момент в нее входило семеро его учеников и единомышленников), он вновь штурмовал «Манеж» с масштабной выставкой живописи и графики. «В Центральном выставочном зале снова плодовитый, как Глазунов, Виктор Казарин и группа “Молот”», -- язвительно отозвалась на нее газета «Коммерсантъ». И тот едкий отзыв был лишь первым предвестником неприкрытой реакции. С «Манежа», по мере увеличения количества ценителей творчества Казарина, росло и число недоброжелателей. Имя гремело на всю Москву. Большие картины, большие залы, большие деньги. А ведь художнику не было еще и 45-ти!
Начало 1990-х Казарин встречал в положении известного и коммерчески успешного художника. Его картины покупали дипломаты, чиновники, иностранцы порой за 3000 советских рублей. Для понимания автомобиль «девятка» тогда стоил 10 000 рублей. Заработанных денег хватало вплоть до того, чтобы построить на собственные сбережения пешеходный мост через реку в любимом Ферапонтово (который так и прозвали Казаринским мостом). Все складывалось как нельзя лучше. Впереди ждало немало выставочных планов. И невозможно было даже представить, что всего через несколько лет период славы и успеха сменится долгими годами разочарования и интеллектуального затворничества.
Для горкома такой масштаб оказался в диковинку.
Художник Анатолий Зверев, впервые увидев исполинскую абстракцию Казарина пошутил: «Если разрезать такую на 100 частей и каждую продать за «поллитру», то получится 100 «поллитры»». Казарин рассердился: «Не понимают!». А через год волей случая Анатолий Тимофеевич уже сам с удовольствием делал полутораметровые экспрессии в квартирной мастерской Казарина на Малахитовой.
Встреча Казарина со Зверевым полна мистических параллелей. Оказалось, они оба учились в студии у Сергея Соколова, только с разницей в 17 лет. Казарин, вспоминал, что у учителя висели рисунки животных, сделанные юным Толей Зверевым, и Соколов о них с гордостью рассказывал. А еще выяснилось, что Зверев и Казарин в молодости независимо друг от друга изобрели и практиковали метод высокоинтенсивного погружения.
Они познакомились в 1981 году в горкоме. Позже именно Казарин пригласил Анатолия Тимофеевича участвовать в выставках их молодой группы «21». А с конца 1985-го до конца 1986-го, то есть почти весь последний год своей жизни, Зверев жил и работал дома у Казарина. Там, в комнате-мастерской на Малахитовой улице ему были созданы все условия: рабочая обстановка, доступ к большим холстам и краскам. Казарин вспоминал, что Зверев в тот год пришел к нему изможденный, обессиленный. Но постепенно энергия мастерской вернула его к жизни. Зверев воспрял, снова с удовольствием начал работать. Изначально камерный художник, он впервые обратился к крупным форматам и создал цикл экспрессиоистских работ размером до полутора метров. В 1986 году Зверев с Казариным сделали знаменитую серию совместных работ. Это была импровизация, когда картины писались буквально «в две руки»: часть делал Зверев, а вторую часть — Казарин. На всех таких работах стоит общая подпись: КАЗ, КЗ или КВ-АЗ
После смерти Зверева в память о друге Виктор Семенович провел несколько выставок «Зверев-Казарин». Возможно, ассоциации с этим названием, а также существенная разница в возрасте, породили разрушительный миф, что Казарин был идейным последователем Зверева и и эксплуатировал его приемы. Виктора Семеновича эти ложные параллели, признаться, сильно задевали: «Мы подружились со Зверевым, когда мне было сильно за 30, я был к тому моменту уже сложившимся художником. Я, конечно, не учился у него технике. Но с интересом изучал и перенимал у него приемы психофизиологии живописи, способ глубокого погружения в работу. Можно сказать, что у Зверева я учился психофизиологии. Но как на художника на меня гораздо большее влияние оказали Врубель, Сутин, Борисов-Мусатов, Шагал, Ван Гог, Гоген, Эль-Греко, Сезанн. И особенно Феофан Грек».
Но вернемся в 1985-й Опыт показа больших картин в горкоме убедил Казарина, что новый материал требует куда большего пространства и совсем иного по размаху выставочного проекта. Подходящей возможности пришло ждать несколько лет. Но в итоге она предоставилась.
Сошлось как нельзя лучше. 1 июня 1991 года персональная выставка Виктора Казарина открылась в московском «Манеже». В огромном пространстве 43-летний художник представил почти 600 картин, многие из которых были шириной три метра. «В маленьком формате я не помещаюсь. Я монументальный художник». Мало кто знал, что Казарин работал над исполинскими холстами в пятнадцатиметровой комнате: «Писал без отхода. Ходил по холстам, и сам мог только с угла посмотреть, что в итоге получилось». Художник вспоминал, что для каждого трехметрового холста он сначала делал серию компактных работ, на которых отрабатывалась психофизиология образа. И только «когда образ был отточен, я мог его переносить на большой формат». Заканчивать работу порой приходилось на улице: художник выносил картины из тесной квартиры, чтобы целиком охватить композицию взглядом.
Выставка в Манеже получила заметный резонанс и позволила Казарину заявить о себе как монументальному художнику.
В январе 1992 года Виктор Казарин закрепил этот успех. Вместе с основанной им художественной группой «Молот» (в тот момент в нее входило семеро его учеников и единомышленников), он вновь штурмовал «Манеж» с масштабной выставкой живописи и графики. «В Центральном выставочном зале снова плодовитый, как Глазунов, Виктор Казарин и группа “Молот”», -- язвительно отозвалась на нее газета «Коммерсантъ». И тот едкий отзыв был лишь первым предвестником неприкрытой реакции. С «Манежа», по мере увеличения количества ценителей творчества Казарина, росло и число недоброжелателей. Имя гремело на всю Москву. Большие картины, большие залы, большие деньги. А ведь художнику не было еще и 45-ти!
Начало 1990-х Казарин встречал в положении известного и коммерчески успешного художника. Его картины покупали дипломаты, чиновники, иностранцы порой за 3000 советских рублей. Для понимания автомобиль «девятка» тогда стоил 10 000 рублей. Заработанных денег хватало вплоть до того, чтобы построить на собственные сбережения пешеходный мост через реку в любимом Ферапонтово (который так и прозвали Казаринским мостом). Все складывалось как нельзя лучше. Впереди ждало немало выставочных планов. И невозможно было даже представить, что всего через несколько лет период славы и успеха сменится долгими годами разочарования и интеллектуального затворничества.
Казарин не любил рассказывать, что именно произошло с ним в девяностые. Очевидно, то же, что с большинством работящих людей. Сбережения семьи растворились в пучине девальвации. Государство быстро дистанцировалось от поддержки прежних выставочных институтов. Началась эпоха расцвета коммерческих галерей, продвигавших другое по духу актуальное искусство. Для художников «старой школы» выставочный процесс если не остановился совсем, то крепко забуксовал. Легендарный «горком» сменил название и статус. Довольно быстро стало понятно, что прежний оазис «другого искусства» стремительно приходит в упадок.
Казарин стал все реже и реже участвовать в выставках. С середины 1990-х художник вовсе ушел в тень. Он все больше времени стал проводить вдали от Москвы, в своем доме в любимом Ферапонтово. Деревенский быт, фрески Дионисия в знаменитом монастыре, лодка, рыбалка, общение с простым народом. Зная бунтарский характер Казарина, многие предполагали, что период затворничества продлится не долго. Но в итоге отсутствие художника на столичной художественной сцене затянулось на целые 15 лет. С конца 1990-х резонансных выставок у него не было. Многие решили, что Казарин и вовсе уехал из страны. Так или иначе, за это время публика стала забывать прежде известное имя.
Лишь в конце 2000-х Виктор Казарин вновь нашел силы вернуться в «обойму». К тому моменту ситуация сильно изменилась. После кризиса 2008 года, московская художественная сцена переживала процесс фундаментальной трансформации. Кконкуренцию прежде всесильным коммерческим галереям все чаще стали составлять аукционы. Сначала те, что вели торги в зале, а позже те, кто запустил торги в Интернете. Казарин с азартом включился в новый процесс. Нет, художник не отказался от классических выставочных залов – именно в них он после возвращения напомнил публике о своих идеях. Но при этом чувствовалось, что художника все больше и больше внимания уделял аукционам. Казарин сам предоставлял на торги свои картины, искренне радовался растущему интересу покупателей и все чаще повторял: «Теперь мои главные выставки – это аукционы».
Вообще в начале 2010-х-х дни всё снова складывалось для художника удачно. Вышли новые статьи, были опубликованы интервью, началось обсуждение в интернет-сообществах. Все это настолько вдохновляло художника, что вскоре Казарин снова вернулся на территорию художественного эксперимента.
С 2010 года художник несколько раз радикально менял привычный стиль и манеру. Так в 2011 году абстрактный неоэкспрессионист Казарин неожиданно создал большой цикл чистой геометрической абстракции с использованием словаря супрематизма. В 2013 году последовала яркая неожиданно яркая серия с игральными картами, где щедро использовался коллаж. А в 2018 году художник создал цикл «джазовых импровизаций». Неожиданно он выбрал несколько картин 15-летней давности и переиграл их на новый лад, без оглядки на прежний сюжет и названия. Почти каждую радикальную смену казаринской манеры сопровождали упреки скептиков: «Зачем вы экспериментируете? Вещи получились для вас не характерные. Такие будут хуже будут продаваться. Не лучше ли держаться прежней узнаваемой манеры и бить в одну точку?» Ко всем подобным советам Казарин был глух. Вообще, убеждать его в чем-то с позиции рыночной привлекательности стилей и сюжетов было бессмысленно. Казарин не позволял коммерческом расчету вставать на пути новых творческих желаний. Он считал, что когда художник слишком держится за узнаваемость, то рискует стать «бросовым»: «Художник сам себя бросает, когда находит один удачный прием и всю жизнь только его и эксплуатирует. Если человек успокаивается, душа перестает работать, художник сам на себя начинает делать плагиат». При этом он подчеркивал, что независимо от эволюции стиля его кредо остается прежним: «использовать психологию цвета, психологию ритма, психологию композиции и направлять на выявление образа».
Казарин был интуитивистом, повелителем страстей, искавшим вдохновение в собственной психофизиологии. И у него была собственная выстраданная и основанная на многолетнем опыте теория о ценности выявления образа исключительно через психофизиологические переживания. Сильно упрощая, суть ее в том, что художник выше всего должен ставить энергию, идущую от души, а не от разума. И наоборот разумную расчетливость в искусстве Казарин не принимал. Художник не доверял каким-то сложным просчитанным концептуальным ходам, и открыто сомневался в искренности и ценности актуальной «зауми».
Опора на психофизиологию по мысли Казарина отнюдь не означала, что каждый художник «внутренней энергетики» должен сидеть сложа руки в ожидании чуда вдохновения. Художник считал, что искусство рождается не по чудесному мановению, а в муках тяжкого труда. Чтобы «выйти на образ», Казарин разработал набор действий, который он назвал «методом напряжения и перенапряжения». Суть его в том, чтобы высоким интенсивностью работы, высоким темпом, через предельные нагрузки взвинчивать психику до состояния, когда образ воплощается в подсознании автоматически. Казарин вспоминал, что «в 1987–1988 годах я мог делать до 5 живописных работ в день. И так работал почти каждый день, до полного изнеможения». Через запредельные нагрузки он достигал состояния, похожего на транс. Само слово «транс» он никогда не использовал, но описывал как в процессе менялось ощущение цвета, обострялись реакции, мозг начинал самостоятельно выявлять образы. Казарин признавал, что свое погружение он прекращал лишь тогда, «когда чувствовал, что сердце еще чуть-чуть и не выдержит».
Виктор Семенович прожил в искусстве долгий век. Он работал много, интенсивно, без длительных перерывов. В 2019 году художник отметил 50-летие творческой деятельности, и продолжал активно трудиться вплоть до последних дней жизни.
По некоторым оценкам наследие Казарина составляет около 10 000 одних только живописных произведений. Это в 4-5 раз больше, чем у многих других известных художников круга «другого искусства». При жизни это нередко ставили ему в упрек -- помните газетный штамп про «плодовитый как Глазунов»? Говорили, что художнику вредно «разбрасываться». Дескать, многочисленность его картин вредит рынку, у покупателей теряется ощущение избранности. Но для Казарина его высокопродуктивный метод с «напряжением и перенапряжением» был не каким-то трюком, а способом существования. К слову, и прежние опасения, связанные с «переизбытком» картин, не оправдались.
Жизнь уже многое расставила по своим местам. За последние 15 лет картины Виктора Казарина регулярно продавались как на международных аукционных площадках («Сотбис» и др.), так и на ведущих аукционах национального значения. Произведения художника находятся в многих европейских музеях и важных собраниях. В частности, несколько его картин входило в собрание Леонида Талочкина, которое в 2013 году пополнило в музейный фонд Государственной Третьяковской галереи. Но важнее другое. Пресловутый «избыток» картин, их доступность для широкого круга покупателей привели к тому, что за полвека творческой деятельности, Казарин стал в истинном смысле народным художником. Картины Виктора Семеновича есть в тысячах семей в России и за рубежом. Живопись Казарина собирает уже третье поколение коллекционеров. И сегодня наследие художника постигают уже внуки тех, кто видел казаринский Манеж 1991 года и покупал его картины 30-40 лет назад.
Каким остался Казарин в моей памяти? Пожалуй, в первую очередь – человеком смелым. Он жил как хотел, постоянно бросая вызовы завистникам, интриганам, многочисленным соперникам на территории искусства. Казарин спорил с искусствоведами и критиками, ругался с чиновниками и функционерами от искусства. Конечно, он не мог не понимать, что заплатит за это высокую цену. Часто так и выходило: он не раз был оболган, оттеснён, загнан за Можай. Но всякий раз восставал и продолжал гнуть свою линию. Не кланялся ни людям, ни судьбе. Большое впечатление на меня произвел последний год жизни. Весной 2020 года в Москве начались локдауны – бушевала эпидемия «ковида». В городе не стихал звук сирен автомобилей «скорой помощи». Улицы опустели, люди прятались по домам. В городе витала атмосфера страха и тихой паники. А что Казарин? Виктор Семенович как ни в чём не бывало каждый день ездил в свою мастерскую. Пешком и на троллейбусе. Всем смертям назло. Близкие люди и друзья уговаривали: «Посиди дома! Поберегись!» .
Но Казарин был непреклонен: «Ничего не боюсь. Менять ничего не буду. Работа и искусство – это и есть моя жизнь» . Безрассудство? Фатализм? А он просто снова занял твердую позицию. Рискнул и выиграл. Ковид обошел его стороной. Все опасные месяцы художник провел за любимой работой. В мастерской, где он был счастлив. И если для многих 2020-й оказался годом страха и упущенных возможностей, то для Казарина он стал очередным плодотворным периодом.
В последний раз я приезжал к нему в конце января 2021 года. Накануне Казарин перенес сложную операцию. Сидел в кресле, был плох, но держался мужественно. «Держитесь. И поправляйтесь скорее!». А через два дня звонок: «Виктор Семенович умер. Похороны в Ферапонтово, 4 февраля».
В следующий раз я оказался в мастерской Виктора Семеновича спустя полгода. В коридоре у стены стоял запас чистых натянутых холстов. В центре большой комнаты на полу – банки с краской. Вроде всё как всегда.
Только окно на кухне закрыто. Чайник не кипит. И расспросов новых больше не будет.
По некоторым оценкам наследие Казарина составляет около 10 000 одних только живописных произведений. Это в 4-5 раз больше, чем у многих других известных художников круга «другого искусства». При жизни это нередко ставили ему в упрек -- помните газетный штамп про «плодовитый как Глазунов»? Говорили, что художнику вредно «разбрасываться». Дескать, многочисленность его картин вредит рынку, у покупателей теряется ощущение избранности. Но для Казарина его высокопродуктивный метод с «напряжением и перенапряжением» был не каким-то трюком, а способом существования. К слову, и прежние опасения, связанные с «переизбытком» картин, не оправдались.
Жизнь уже многое расставила по своим местам. За последние 15 лет картины Виктора Казарина регулярно продавались как на международных аукционных площадках («Сотбис» и др.), так и на ведущих аукционах национального значения. Произведения художника находятся в многих европейских музеях и важных собраниях. В частности, несколько его картин входило в собрание Леонида Талочкина, которое в 2013 году пополнило в музейный фонд Государственной Третьяковской галереи. Но важнее другое. Пресловутый «избыток» картин, их доступность для широкого круга покупателей привели к тому, что за полвека творческой деятельности, Казарин стал в истинном смысле народным художником. Картины Виктора Семеновича есть в тысячах семей в России и за рубежом. Живопись Казарина собирает уже третье поколение коллекционеров. И сегодня наследие художника постигают уже внуки тех, кто видел казаринский Манеж 1991 года и покупал его картины 30-40 лет назад.
Каким остался Казарин в моей памяти? Пожалуй, в первую очередь – человеком смелым. Он жил как хотел, постоянно бросая вызовы завистникам, интриганам, многочисленным соперникам на территории искусства. Казарин спорил с искусствоведами и критиками, ругался с чиновниками и функционерами от искусства. Конечно, он не мог не понимать, что заплатит за это высокую цену. Часто так и выходило: он не раз был оболган, оттеснён, загнан за Можай. Но всякий раз восставал и продолжал гнуть свою линию. Не кланялся ни людям, ни судьбе. Большое впечатление на меня произвел последний год жизни. Весной 2020 года в Москве начались локдауны – бушевала эпидемия «ковида». В городе не стихал звук сирен автомобилей «скорой помощи». Улицы опустели, люди прятались по домам. В городе витала атмосфера страха и тихой паники. А что Казарин? Виктор Семенович как ни в чём не бывало каждый день ездил в свою мастерскую. Пешком и на троллейбусе. Всем смертям назло. Близкие люди и друзья уговаривали: «Посиди дома! Поберегись!» .
Но Казарин был непреклонен: «Ничего не боюсь. Менять ничего не буду. Работа и искусство – это и есть моя жизнь» . Безрассудство? Фатализм? А он просто снова занял твердую позицию. Рискнул и выиграл. Ковид обошел его стороной. Все опасные месяцы художник провел за любимой работой. В мастерской, где он был счастлив. И если для многих 2020-й оказался годом страха и упущенных возможностей, то для Казарина он стал очередным плодотворным периодом.
В последний раз я приезжал к нему в конце января 2021 года. Накануне Казарин перенес сложную операцию. Сидел в кресле, был плох, но держался мужественно. «Держитесь. И поправляйтесь скорее!». А через два дня звонок: «Виктор Семенович умер. Похороны в Ферапонтово, 4 февраля».
В следующий раз я оказался в мастерской Виктора Семеновича спустя полгода. В коридоре у стены стоял запас чистых натянутых холстов. В центре большой комнаты на полу – банки с краской. Вроде всё как всегда.
Только окно на кухне закрыто. Чайник не кипит. И расспросов новых больше не будет.
Пресса и отзывы посетителей
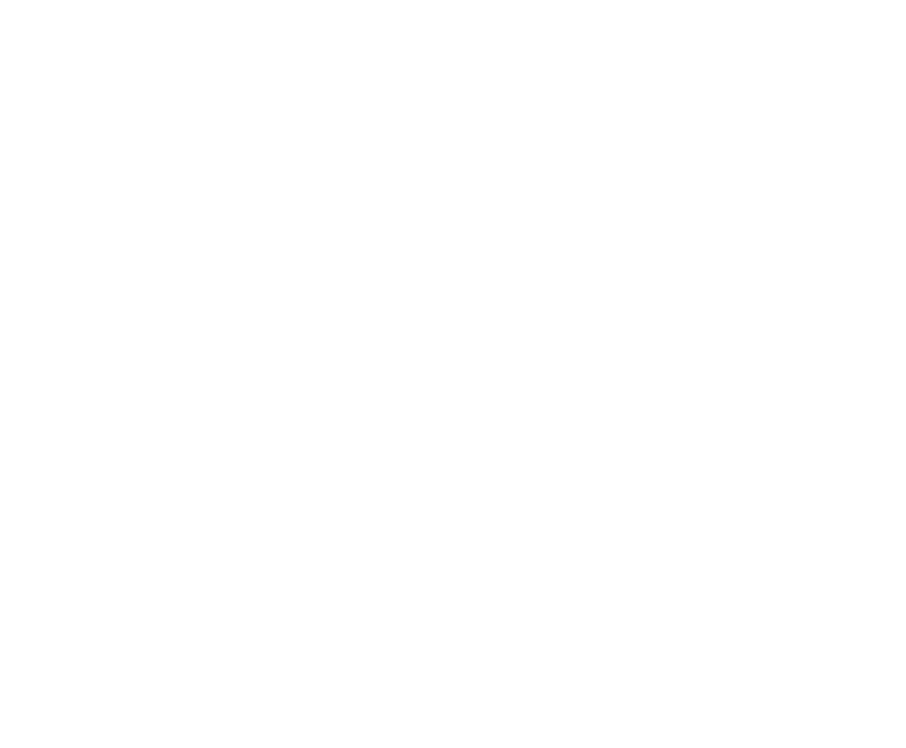
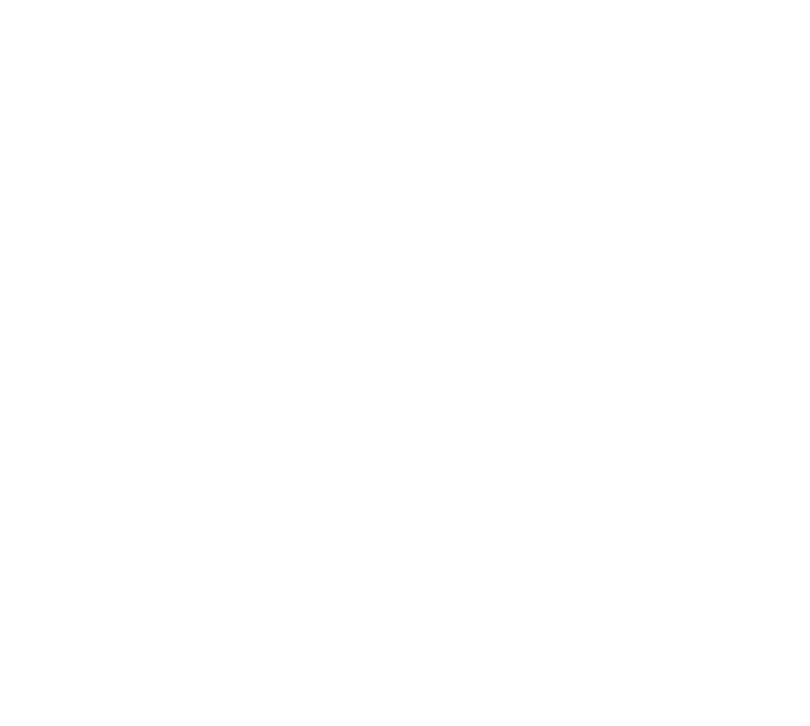
"Структуры непокоя": в названии выставки Виктора Казарина в Новой Третьяковке – суть творчества художника в 80-е – 90-е годы. Это было время экспериментов, взрывных и полных напряжения полотен. О том, как они создавались, – Елена Ворошилова.
На входе зрителя встречает ворона. Чтобы рассмотреть ее надо отойти подальше. Тогда в абстрактных линиях и жестких мазках, можно увидеть голову, глаз, клюв птицы.
На входе зрителя встречает ворона. Чтобы рассмотреть ее надо отойти подальше. Тогда в абстрактных линиях и жестких мазках, можно увидеть голову, глаз, клюв птицы.
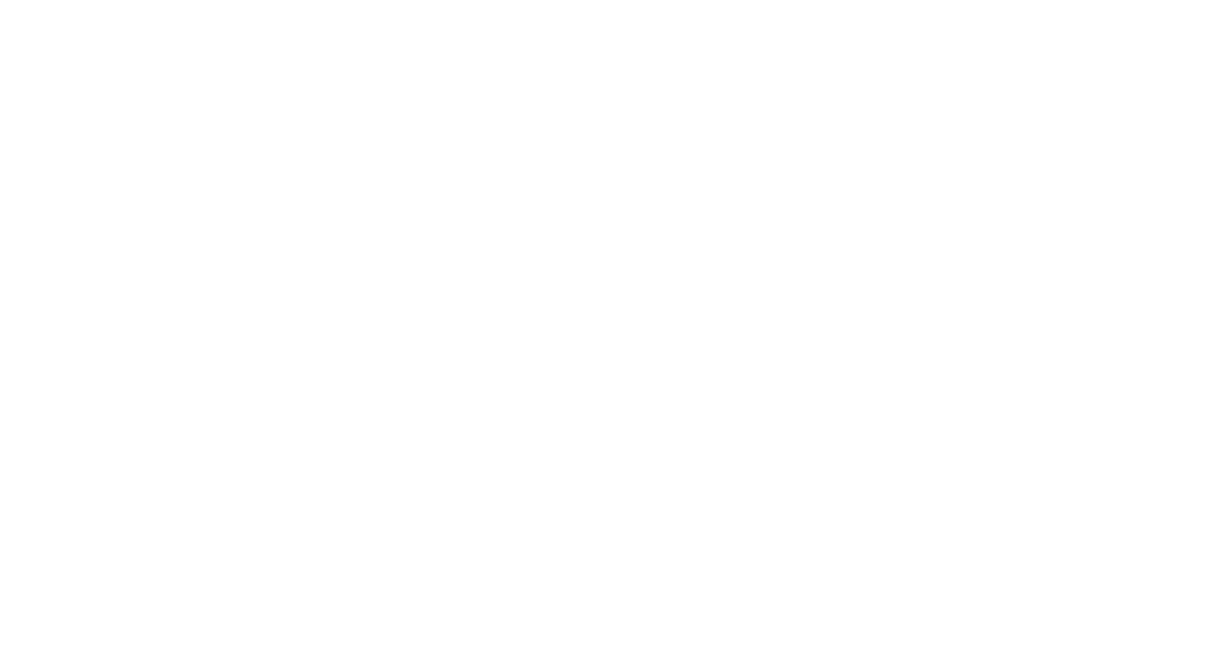
В Третьяковской галерее на Крымском валу прошла первая развернутая выставка Виктора Казарина (1948-2021). Выражаю благодарность главному устроителю и куратору, художнику Дмитрий Каварга за приглашение и очень интересный рассказ о представленных работах.
На мой взгляд, получилась структурированная история развития авторского метода внутри самого яркого периода творчества: 1980-1990х.
На мой взгляд, получилась структурированная история развития авторского метода внутри самого яркого периода творчества: 1980-1990х.
В рамках единой концепции, с интересно скомпонованными диптихами и триптихами и сдвоенным размещением большеформатных работ в центре зала. При входе посетителей встречала «Ворона-неворона»,1986: в работе как бы проступает остов, каркас, и явный, и абстрактный, символический. Остальные картины расположили в пространстве спиралеобразно, по мере нарастания эмоционального содержания и развития характерных авторских художественных приемов. Отдельно следует отметить продуманное экспонирование с учётом параллелей с крупными вехами развития абстрактного экспрессионизма и того, что в целом весь отечественный абстракционизм развивался своеобразно, а в случае с московскими художниками эпохи застоя, зачастую в основном посредством обмена опытом с коллегами по выставкам Горкома графики на Малой Грузинской.
Исследователи творчества В.Казарина, не сговариваясь, отмечают неистовость как стилевую доминанту творчества. Отсюда же – характерные особенности работы художника: без эскизов, палитры и длительной работы над полотном, со смешением красок прямо на холсте и эмоционально быстрым «схватыванием» образа. При том большеформатные работы создавались в ограниченном пространстве квартиры-мастерской, что дополнительно иллюстрирует стремление вырваться из стесняющих рамок.
По словам родных, коллег и знакомых, Казарин был рьяным антиконцептуалистом, не признававшим рацио при погружении в необъятность бессознательного. Оттого, очевидно, он уважал творчество Джексона Поллока с его инстинктивной «живописью действия» по природе своей чем-то родственной грандиозной джазовой импровизации.
Экспрессия - прежде всего! По-своему, попытка выражения мятежа первобытного духа, запечатления фрагмента воссозданного хаоса посредством сложного авторского метода "напряжения и перенапряжения". Своеобразное автоматическое письмо на пике взвинченности нервной системы. Опасная пограничность, внутренняя расхристанность, с которой подчас будто и сам мастер не в ладу. Концентрированный энергетический выплеск, трудно регулируемый, что по-своему отражается в работах (рваные линии, отпечатки обуви, густые мазки, местами будто вживленные в красочную массу).
Попытка совмещения живописи действия с излучением цветового поля, невозможного объединения слитности и разъятости, - выражение внутренней бурной расторможенности в пространстве холста. Попытка уловить звучность цвета, которую так умело препарировал Кандинский и смаковал Лентулов. Невольно на память приходит также лучизм Михаила Ларионова.
Живопись состояния. Интересно, например, что, по словам главного куратора и организатора выставки, Дмитрия Каварги, картину «Портрет математика»,1985г., точнее было бы назвать Портретом математики. Т.е. акцент здесь смещается на передачу науки как состояния ради непростого совмещения внутреннего и внешнего, эмоционального и метрического: этакий математик «изнутри».
Также из всех работ, написанных маслом на оргалите, особенно обращает на себя внимание несколько отдельно экспонируемая картина со вполне ОБЭРИУтским названием «Смерть петуха», 1982г. Работа иного порядка – экспрессионизм более «внутренний», если можно так сказать, отчасти тотемно-фольклорный по своей сути.
Очевидно, что обостренные психофизические переживания - кредо автора - проступают сквозь наэлектризованное поле полотен, особенно крупноформатных, вовлекающих зрителя в водоворот красочного буйства. Здесь впору вспомнить об эмоциональной заразительности творчества, и здесь же невольно возникают мысли об оборотной его стороне, подчас опасной, разрушающей всё вокруг, как стихийное бедствие. Видимо, не зря на полотнах часто появляется море!
Исследователи творчества В.Казарина, не сговариваясь, отмечают неистовость как стилевую доминанту творчества. Отсюда же – характерные особенности работы художника: без эскизов, палитры и длительной работы над полотном, со смешением красок прямо на холсте и эмоционально быстрым «схватыванием» образа. При том большеформатные работы создавались в ограниченном пространстве квартиры-мастерской, что дополнительно иллюстрирует стремление вырваться из стесняющих рамок.
По словам родных, коллег и знакомых, Казарин был рьяным антиконцептуалистом, не признававшим рацио при погружении в необъятность бессознательного. Оттого, очевидно, он уважал творчество Джексона Поллока с его инстинктивной «живописью действия» по природе своей чем-то родственной грандиозной джазовой импровизации.
Экспрессия - прежде всего! По-своему, попытка выражения мятежа первобытного духа, запечатления фрагмента воссозданного хаоса посредством сложного авторского метода "напряжения и перенапряжения". Своеобразное автоматическое письмо на пике взвинченности нервной системы. Опасная пограничность, внутренняя расхристанность, с которой подчас будто и сам мастер не в ладу. Концентрированный энергетический выплеск, трудно регулируемый, что по-своему отражается в работах (рваные линии, отпечатки обуви, густые мазки, местами будто вживленные в красочную массу).
Попытка совмещения живописи действия с излучением цветового поля, невозможного объединения слитности и разъятости, - выражение внутренней бурной расторможенности в пространстве холста. Попытка уловить звучность цвета, которую так умело препарировал Кандинский и смаковал Лентулов. Невольно на память приходит также лучизм Михаила Ларионова.
Живопись состояния. Интересно, например, что, по словам главного куратора и организатора выставки, Дмитрия Каварги, картину «Портрет математика»,1985г., точнее было бы назвать Портретом математики. Т.е. акцент здесь смещается на передачу науки как состояния ради непростого совмещения внутреннего и внешнего, эмоционального и метрического: этакий математик «изнутри».
Также из всех работ, написанных маслом на оргалите, особенно обращает на себя внимание несколько отдельно экспонируемая картина со вполне ОБЭРИУтским названием «Смерть петуха», 1982г. Работа иного порядка – экспрессионизм более «внутренний», если можно так сказать, отчасти тотемно-фольклорный по своей сути.
Очевидно, что обостренные психофизические переживания - кредо автора - проступают сквозь наэлектризованное поле полотен, особенно крупноформатных, вовлекающих зрителя в водоворот красочного буйства. Здесь впору вспомнить об эмоциональной заразительности творчества, и здесь же невольно возникают мысли об оборотной его стороне, подчас опасной, разрушающей всё вокруг, как стихийное бедствие. Видимо, не зря на полотнах часто появляется море!
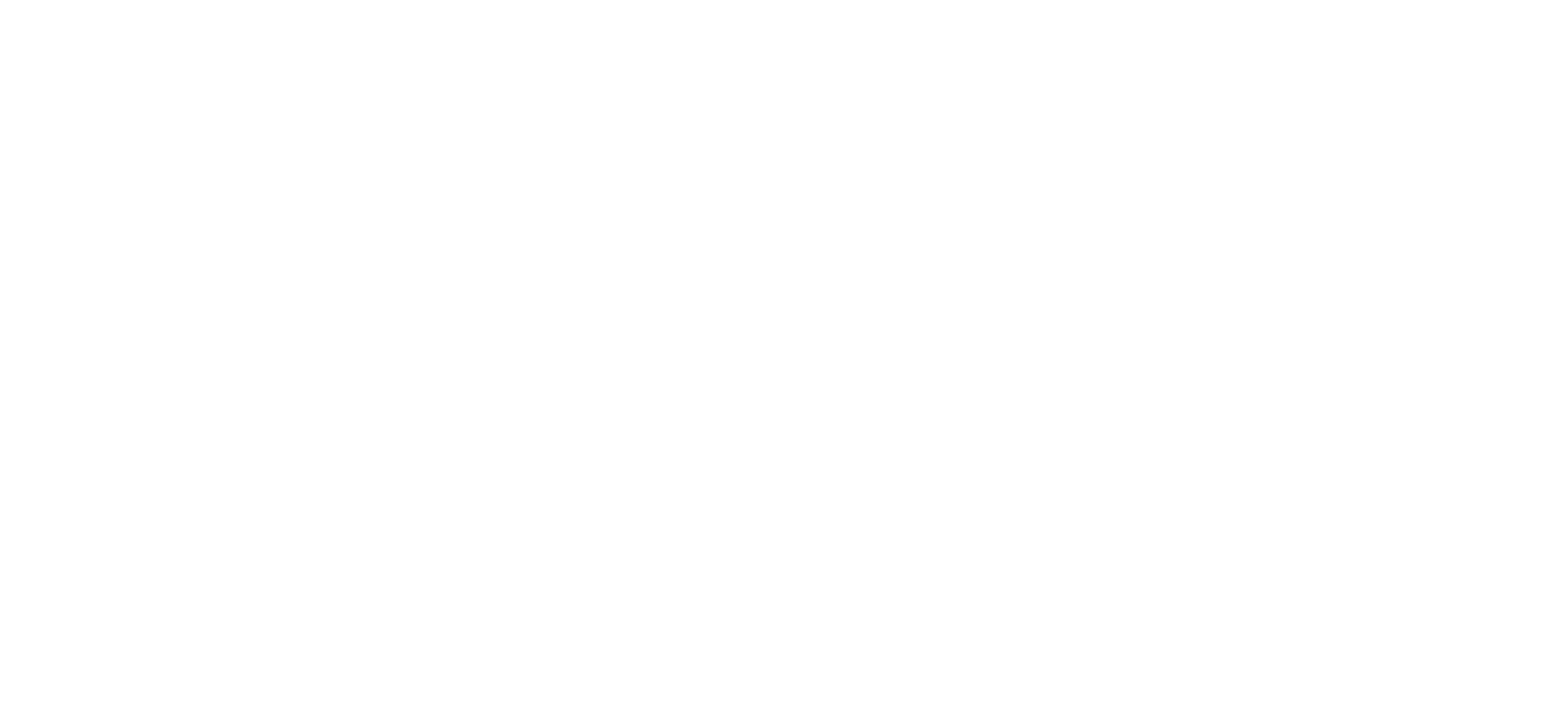
Более 40 крупноформатных полотен кисти известного на Вологодчине художника представили москвичам
Картины московского художника с мировым именем Виктора Казарина ещё недавно украшали экспозицию Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Ферапонтове. Сегодня полотна величайшего экспрессиониста представили в Государственной Третьяковской галерее.
Картины московского художника с мировым именем Виктора Казарина ещё недавно украшали экспозицию Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Ферапонтове. Сегодня полотна величайшего экспрессиониста представили в Государственной Третьяковской галерее.